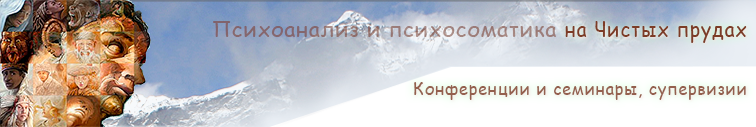Рональд Бриттон. "Освобождение от Супер-Эго"
«Осенний лес мне так прорек:
Коль Бог есть Бог, то он не добр.
А если добр, то он не Бог».
— Арчибальд Маклиш»

В своей часто цитируемой статье о мутационной интерпретации, опубликованной в 1934-м году, Джеймс Стрэйчи предположил, что в терапевтическом измерении анализ является результатом модификации Супер-Эго.
Его идея основывается на описанном Мелани Кляйн цикле проекции и ре-интроекции. Он считает, что суровое Супер-Эго может быть модифицировано в переносе посредством перенаправления проекций на аналитика и последующей ре-интроекции этих проекций, модифицированных пребыванием в аналитике. Переживание пациентом аналитика, на которого были направлены проекции, со временем должно модифицировать Супер-Эго.
Эта идея лежит в основании значительного объема аналитической практики и остается полезным объяснением терапевтических изменений. Мои дополнения к этой теории касаются отношения Эго к Супер-Эго, а не просто характера последнего. При самодержавной монархии характер монарха может меняться при смене правителя, что значительно влияет на подданных. Поэтому модификация характера самодержца имеет большое значение, и то же самое верно для внутреннего мира.
Однако необратимое улучшение благосостояния граждан в государстве зависит от модификации конституциональных взаимоотношений между короной и народом. Подобным же образом во внутреннем мире позиция Эго по отношению к тому, кто оккупирует должность совести, имеет решающее значение.
Даже если Супер-Эго сохраняет свой враждебный характер, анализ может помочь пациенту путем изменения отношений между Эго и Супер-Эго. В частности, он может помочь отнять у Супер-Эго функцию суждения как о внутренней, так и о внешней реальности. Именно это я называю «освобождением» Эго. В случае деструктивного Супер-Эго (я буду обсуждать его в следующей главе) задачей анализа становится «смещение с должности» недружелюбного, чужеродного внутреннего объекта, который занимает место совести.
Как часто отмечают, наблюдается обескураживающая взаимозамена терминов с тех пор, когда Фройд впервые ввел термин «Ichideal», что переводится как «Эго-идеал». Совпадает ли он с термином «Idealich», который переводится как «идеал-Эго»? Обозначает ли он Супер-Эго («Über-Ich»)? Иногда Фройд использовал термины «Эго-идеал» («Ichideal») и «Супер-Эго» («Über-Ich») совершенно на равных. Когда он таким образом применяет тот или иной термин по отдельности, то приписывает соответствующей инстанции две функции: действовать как идеальная модель и действовать как критическая инстанция, выносящая суждение о том, насколько индивид соответствует этому идеалу. Кроме того, происхождение этой структуры в разные периоды времени описывается по-разному. Когда в 1914-м году впервые появляется понятие об Эго-идеале, Фройд описывает его как психический остаток идеальной самости младенчества (Freud, 1914c).
Гораздо позднее, в «Продолжении лекций по введению в психоанализ», он предполагает, что это «осадок старого образа родителей, выражение восхищения совершенством, которое ребенок им приписывал» (Freud, 1933а, р. 65/340). К тому времени Супер-Эго упрочивается в представлении Фройда как интернализация родительского авторитета, «осадок,— пишет он в 1923-м году,— этих двух идентификаций [отца и матери], неким образом объединенных друг с другом /…/ как Эго-идеал или Супер-Эго» (Freud, 1923b, p. 35/370Г).
Возможно, теперь термин «идеал-Эго» («Idealich») стал обозначать ту самую идеализированную самость нарциссического младенчества, о которой говорилось вначале? Чарльз Хэнли (1984) предполагает, что полезно сохранять термин «идеал-Эго» и отличать его от термина «Эго-идеал». «Эго-идеал» относится к стремлению, «состоянию становления», тогда как «идеал-Эго» обозначает иллюзорную совершенную самость. Я склонен с этим согласиться и далее предполагаю, что иллюзорная совершенная самость, «идеал-Эго», является результатом идентификации субъективной самости с тем, что должно быть самостью стремлений. Полагаю, что такой «Эго-идеал» стремлений — это преемник идеального ребенка, что некогда существовал в психике родителей, а теперь обитает во внутреннем мире индивида в качестве возможной самости, к которой продолжают стремиться и о которой вновь и вновь скорбят. «Идеал-Эго» возникает, когда субъективная самость обретает эту идентичность посредством проективной идентификации. Такое оформление самости, несколько напоминающей «грандиозную самость» у Когута, не является, на мой взгляд, частью развития каждого человека, но представляет собой отклонение от общей схемы. Она развивается в случае, который Фройд называет «нарциссическим типом» в своей статье «Либидинозные типы» (Freud, 1931a).
В этой поздней работе Фройд исследует фундамент характера с точки зрения не либидинозных стадий, но объектных отношений индивидуума, в частности, отношений с Супер-Эго. К тому времени отношение Эго к Супер-Эго вышло на первый план в его размышлениях. Вот что он пишет о «нарциссическом типе»: «здесь нет напряжения между Эго и Супер-Эго (и рассматривая этот тип, вы вряд ли сможете предположить существование Супер-Эго)» (ibid., p. 218). Напряжения нет, на мой взгляд, потому, что человек считает, что он и есть тот Эго-идеал, которого жаждет Супер-Эго. Это приводит к характеру, который, кажется, не обладает Супер-Эго вообще. Если обратиться к религиозной сфере, здесь приходят на ум слова из Евангелия от Матфея: «И се, глас с небес глаголющий: Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение» (Мф. 3: 17).
В соответствующем разделе христианской теологии абсолютную тождественность Бога-отца и Бога-сына необходимо согласовать с их явленным различием. Это проделывается с помощью формулы «Отец и Сын — две личности одной Божественной природы». «Я и Отец — одно»,— говорит Христос (Ин. 10: 30), но в то же время далее он уточняет: «Отец Мой более Меня» (Ин. 14: 28). С точки зрения анализа, идеал-Эго в своем младенческом совершенстве тождественно совершенству Эго-идеала, основанного на совершенстве родительском. Комментарий Фройда: если бы у него были только такие пациенты, он бы не открыл Супер-Эго,— здесь вполне справедлив. А что, если Супер-Эго, с которым происходит такая абсолютная идентификация, оказывается не божественным, а обладает агрессивным, деструктивным характером? Личность, которая при этом появится, скорее всего будет разрушителем, свободным от всякой вины и действующим заодно с внутренним разрушительным богом.
К 1930-му году прочно укрепилось понятие о Супер-Эго в качестве средоточия совести, и подчеркивалась его карающая природа. Теперь Фройд объяснял агрессию Супер-Эго проекцией маленьким ребенком агрессии на его родительских предшественников, признавая за этой идеей приоритет Мелани Кляйн (Freud, 1930a, p. 130). Итак, терминология как будто бы прояснилась. Однако я думаю, что путаница в терминах и источниках носит не просто семантический или исторический характер, но отражает сложную внутреннюю ситуацию, в которой эти различные внутренние репрезентации находятся в некотором взаимоотношении и могут иногда конкурировать за статус. Клиническая сложность возрастает, когда мы добавляем понятие проективной идентификации к понятию интроективной идентификации, но тем самым может достигаться большая ясность теории. Теперь фраза Фройда «совершенство, которое ребенок им [родителям] приписывал» получает новое значение. Добавление проективной идентификации может свести воедино два заявленных источника идеала. Если мы принимаем, что ребенок посредством проективной идентификации приписал уже существующую фантазию об идеальной самости родителям, а затем интроецировал получившуюся модель, идеал самости и родительский идеал оказываются одним и тем же.
Слова Христа «верьте Мне, что Я в Отце и Отец во Мне» выглядят здесь подходящей иллюстрацией. Не христианский ли это ответ на те противоречивые указания, которые Фройд приписал Супер-Эго: «Ты должен быть таким же — ты не смеешь быть таким же»? (Freud, 1923b, p. 35). Христос как Бог-сын и есть, и не есть Бог-отец, это две личности с одной «Божественной Природой». Дальнейший охват этой рекурсивной идентификации подразумевается предположением Фройда в «Продолжении лекций», что Супер-Эго ребенка строится по образцу не родителя, но родительского Супер-Эго. «Ты должен слушать не просто меня,— мог бы сказать родитель,— но слушать отца во мне». Сверхъестественный оттенок, который при этом, видимо, получает Супер-Эго в личности, может исходить от таких унаследованных предков, с их нематериальным, бессознательно фантазируемым существованием в реальных родителях. Достаточно сказать, что нарциссические характеры, у которых самообожание кажется полным и абсолютным, идентифицировали свою самость (идеал-Эго) со своим Эго-идеалом и чувствуют себя заодно со внутренним идеализированным и идеализирующим родителем. Они вряд ли будут прибегать к анализу за помощью или ради достижения необходимых изменений, но могут обращаться к нему ради обучения.
Сложность понятия Супер-Эго возрастает еще более с исследованием Мелани Кляйн раннего, или же архаического Супер-Эго младенчества, которое одни считают источником Супер-Эго, а другие — его предшественником. Когда Кляйн выработала свою концепцию депрессивной позиции, она провела различие между окрашенным виной страхом (т. е. персекуторной тревогой, порожденной внутренним обвинением со стороны карающего Супер-Эго) и окрашенной виной болью и раскаянием, которые следуют за причинением ущерба. Я хотел бы подчеркнуть в контексте данного обсуждения, что в первом случае вина переживается как внутреннее обвинение — а именно, выдвигаемое Супер-Эго в отношении Эго, а во втором, на депрессивной позиции, вина является аффектом Эго. Это пример Эго, которое возвращает себе некую функцию, принимая на себя ответственность и тем самым ослабляя власть Супер-Эго — еще один акт обретения независимости. Как отмечает Фройд, «можно сказать, что Ид совершенно аморально, Эго старается быть моральным, Супер-Эго может стать гиперморальным и тогда столь жестоким, каким может быть только Ид» (Freud, 1923b, p. 54/388).
Изучению природы Супер-Эго в психоанализе предшествовало многовековое изучение теологами его внешней репрезентации — Бога. Особой проблемой для них было существование зла в мире, очевидно, сотворенном всемогущим Богом, который к тому же абсолютно добр. Полагалось, что этот вопрос, «проблема зла», рассматривается в Книге Иова. Подобно «Потерянному раю» Мильтона, эту книгу можно считать попыткой оправдать пути Господни перед людьми. О Книге Иова было написано много, и более поздние исследования позволяют извлечь иные смыслы из ее парадоксов. Я бы хотел обратиться к ней в данном контексте, поскольку считаю ее описанием обретения человеком независимости — от Божественного, деспотического, от указаний — путем возвращения себе права выносить суждения. В наших терминах, Эго заявляет себя должной инстанцией вынесения суждений. Сначала даже Фройд ошибочно передавал эту функцию Супер-Эго, на что я указывал в предыдущей главе. В Книге Иова я рассматриваю Иова как Эго, а Бога — как Супер-Эго, и хотя с Иовом жестоко обращаются и запугивают его, он все же провозглашает свое право на вынесение суждений.
История начинается с описания Иова как человека непорочного, справедливого, богобоязненного и «удалявшегося от зла». Бог сказал Сатане: «обратил ли ты внимание твое на раба Моего Иова? нет такого, как он, на земле». А Сатана ответил Богу: «разве даром богобоязнен Иов? Не Ты ли кругом оградил его и дом его и все, что у него? Дело рук его Ты благословил, и стада его распространяются по земле; но простри руку Твою и коснись всего, что у него,— благословит ли он Тебя?» Бог принял вызов и, по сути, заключил с Сатаной пари, что Иов не дрогнет. Он сказал Сатане: «вот, все, что у него, в руке твоей; только на него не простирай руки твоей». И тут же, за один день, все стада Иова угнали, его слуг убили, овец, пастухов и имущество поразила молния, и все сгорело дотла. В тот же день ураган разрушил дом его старшего сына и уничтожил всех детей Иова (Иов 1:1–19). Но в ответ Иов не проклял, но восславил Бога: «наг я вышел из чрева матери моей, наг и возвращусь. Господь дал, Господь и взял; да будет имя Господне благословенно!» (Иов 1:20).
И Бог снова похвалился перед Сатаной своим примерным рабом Иовом, а Сатана снова бросил вызов Богу. «За жизнь свою отдаст человек все, что есть у него; но простри руку Твою и коснись кости его и плоти его,— благословит ли он Тебя?» Тогда Бог сказал: «Вот, он в руке твоей, только душу его сбереги». Сатана покрыл Иова отвратительными язвами с головы до ног, тот взял черепицу и сел на пепелище скоблить себя (Иов 2:1–7). Жена посоветовала Иову возвести хулу на Бога и умереть. Но Иов ответил, что она говорит как безумная: «неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злого не будем принимать?» (Иов 2:10). Иов не проклял Господа, но страдания его продолжались, и тогда он проклял день, в который родился.
«Погибни день, в который я родился, и ночь, в которую сказано: зачался человек! /…/ Для чего не умер я, выходя из утробы, и не скончался, когда вышел из чрева? Зачем приняли меня колени? Зачем было мне сосать сосцы?» (Иов 2:3–12)
Утешители Иова, трое его друзей, ужаснулись его положению и его утратам, но они читали ему наставления о Господней справедливости, и предположили, что Иов, должно быть, совершил что-то недостойное, а когда он станет безупречен, Бог вознаградит его. Они предложили единственное решение: чтобы защититься от Бога, человек должен быть чист и прав. Иными словами, они указали на обсессивный выход: страшиться преследования Супер-Эго, то есть заниматься бесконечным очищением и проверкой себя.
«Почему вы не сжалитесь надо мной, но говорите, что если я буду праведен, Бог восстановит меня»,— возопил к ним Иов. А Богу он говорит: «Хотя бы я омылся и снежною водою и совершенно очистил руки мои, то и тогда Ты погрузишь меня в грязь» (Иов 9:30–31). Провоцируемый своими утешителями, Иов повторяет, что Бог истребляет и праведных, и грешных, но все же не проклинает Господа и не отрекается от него. Иов продолжает верить, что Бог всемогущ, и не заявляет, что он плохой бог или злой дух. Однако при этом Иов призывает Бога оправдаться в содеянном в отношении него. Теперь Иов жалуется, что Бог остается безмолвным и невидимым, и он не верит, что Господь слышит его.
Ключевой момент всей истории наступает, когда Иов восклицает: «страх Его да не ужасает меня,— и тогда я буду говорить». Он решился высказать вслух свои мысли. «Опротивела душе моей жизнь моя; предамся печали моей; буду говорить в горести души моей»,— таковы его слова, и он всерьез призывает Бога оправдаться:
«Я буду говорить, что бы ни постигло меня. Для чего мне терзать тело мое зубами моими и душу мою полагать в руку мою? Вот, Он убивает меня, но я буду надеяться; я желал бы только отстоять пути мои пред лицем Его!» (Иов 13:13–16).
Жалуясь, Иов начинает намекать, что Бог несовершенен, что он не способен сочувствовать, что он меньше, чем человек:
«Хорошо ли для Тебя, что Ты угнетаешь, что презираешь дело рук Твоих, а на совет нечестивых посылаешь свет? Разве у Тебя плотские очи, и Ты смотришь, как смотрит человек? Разве дни Твои, как дни человека, или лета Твои, как дни мужа, что Ты ищешь порока во мне и допытываешься греха во мне, хотя знаешь, что я не беззаконник, и что некому избавить меня от руки Твоей?» (Иов 10, 3–7).
Иов начинает характеризовать Бога как безжалостного, неспособного меняться: «Но Он тверд; и кто отклонит Его? Он делает, чего хочет душа Его». Для человека это были бы серьезные недостатки.
И тут Елиуй, молодой человек, возможно, некий аналог юного и исполненного веры Иова, начинает говорить как бы от Бога. Он заявляет, что ведает лучше Иова и его зрелых утешителей, поскольку не опыт делает мужей мудрыми, но близость к Богу. Далее он говорит, что Бог не нуждается в оправдании, поскольку он больше человека и невыразим: «Бог говорит однажды и, если того не заметят, в другой раз». Один из аргументов юного защитника Бога заключается в том, что для Бога несущественно, что думает Иов; все это просто неверно. Подвергая Иова испытанию, Бог потребовал от него беспрекословного подчинения, чтобы продемонстрировать обреченное рабство человечества.
Итак, мы подходим к финалу. Бог является в буре и принимается удивлять и запугивать Иова, требуя покорности. В общем и целом он говорит: Я создал тебя; Я создал все, что ты видишь; Я научил тебя всему, что ты знаешь; Я сотворил Бегемота и Левиафана, которые пугают тебя в твоих снах, и все естественное и неестественное, что ужасает тебя. Как же ты осмеливаешься судить меня по человеческим меркам, если я непостижим для тебя, и неисповедимы пути Мои?
Реакция на это Иова заняла центральное место во многих дискуссиях и религиозных размышлениях. Для меня наиболее осмысленным толкованием парадокса Книги Иова стал постмодернистский подход к ней Джека Майлса. Я думаю, он также показывает, как можно применять этот подход в попытках понять отношение Эго к Супер-Эго. Майлс, как и другие критики-постмодернисты, доказывает, что исходный текст переведен неправильно ради того, чтобы привести его в соответствие иудейским и христианским религиозным постулатам. Вот что он пишет: «к сожалению, традиция толкования, основанная на негласном исправлении древнееврейских текстов, преуспела в превращении в покаяние того, в чем на самом деле слышна ирония» (Miles, 1995, p. 314). Как указывает Майлс, Бог, говоря из бури, не предъявляет никаких претензий к Иову на моральных основаниях и не пытается себя оправдать, он лишь требует поклонения и подчинения, опираясь на силу — кто сильнее, тот и прав. Традиционное иудейское и христианское толкование гласит, что Иов раскаивается, видимо, в том, что не проявил безоговорочной покорности, и оказывается вознагражденным долгой жизнью и новым имуществом.
Существуют различные современные толкования значения ответа Иова Богу из бури, не усматривающие в нем акта раскаяния. Стивен Митчелл (Mitchell, 1987) предлагает по существу буддийский подход, согласно которому Иов отступает от своего упорного сосредоточения на нравственности и достигает просветления, понимая, что физическое тело — лишь прах, а личная драма не имеет никакого значения. Эдвин Гуд (Good, 1990) говорит, что Иов раскаивается за свои мысли о значении греха в истолковании мира. У Майлса другая идея: он полагает, что реакция Иова — уступка силе Бога при сохранении собственного суждения о действиях Бога. «Если,— пишет Майлс,— Бог может принудить Иова прекратить порицать Бога и начать порицать себя, Бог выигрывает. Если не может, то проигрывает». На основании тщательного перевода заново исходного древнееврейского текста Майлс заключает, что «попытка Бога проваливается, и Иов оказывается в результате поворотным пунктом в жизни Бога, прочитывая эту жизнь как движение от неведения о себе к познанию себя» (Miles, 1995, p. 430).
В своей книге «Биография Бога» Майлс занимается изучением формирующегося характера Бога в Танахе, исходном древнееврейском тексте Библии. Я предпочитаю подход с другой точки зрения — не развития Бога, Супер-Эго, но развития Иова, Эго. Если так распределить роли Эго и Супер-Эго в данной истории, она изображает решающий момент в развитии, когда Эго всерьез принимается за Супер-Эго, и, все еще опасаясь его силы, заявляет о своем праве оспаривать его суждения и сомневаться в его мотивах. Это, я полагаю, решающий момент и в некоторых курсах анализа, когда индивид оказывается способным оспорить подлинность голоса враждебного суждения, независимо от того, переживается оно исходящим изнутри, как самопорицание, или же от аналитика — благодаря проекции.
Однако Книга Иова была включена в Библию и в иудейскую и христианскую религию, поскольку она оправдывает Бога, и делает это в постскриптуме. Бог восхваляет Иова и дарует ему долгую жизнь и удачу до конца его дней, а Иов, окруженный новой семьей, восхваляет Господа. Майлс усматривает в этом благодарность Бога к Иову за то, что тот поднял проблему различения справедливого и несправедливого Бога и тем самым заключил новый завет между человеком и Богом. Я бы скорее увидел в этом необходимую поправку со стороны верующих в Бога к тому, что иначе стало бы трагедией в смысле великих греческих трагедий. Если бы эту историю в наши дни превращали в киносценарий, продюсеры настаивали бы на оптимистической концовке подобного типа. В психологических терминах она представляет собой то, что Мелани Кляйн называла «маниакальной репарацией». В отличие от истиной репарации, при которой человек сталкивается с утратой, ощущает боль, испытывает вину и что-то поправляет, при маниакальной репарации все восстанавливается, никто не виноват и ни о чем не скорбят. Жена Иова, потерявшая всех своих детей и предлагавшая проклясть виновного в их гибели, в постскриптуме не слышна и не видна.
Бог в Книге Иова не определяет себя никоим образом, кроме как по своим действиям — в качестве Создателя. Обычное его определение — «Господь, Бог отцов» (1 Пар. 29:20). Этот акцент, воспроизводимый в литургии с примечательной частотой, хорошо отвечает той гипотезе Фройда, что Супер-Эго ребенка берет свое начало от Супер-Эго родителей. Всегда ли так происходит? Или же Фройд описывает особенно грозное Супер-Эго, терзающее тех несчастных, которым не повезло? Мне кажется, оно фигурирует в личности некоторых людей, порождая в них особую суровость и ригидность.
Именно таков, на мой взгляд, был случай г-на Р., которому необходимо было серьезное аналитическое лечение, чтобы достичь «позиции Иова»: стать судьёю собственного Супер-Эго. До того г-на Р. терзало внутреннее суждение, гласящее, что он неполноценный; уже само по себе это суждение калечило его, поскольку из-за него он с трудом верил в свои способности. В анализе он дал понять, что идея о его ущербности не была его реальным представлением о себе, но он чувствовал себя отягощенным ею. Кроме того, он бы мог сказать вместе с Иовом: «Ты гонишься за мною, как лев, и снова нападаешь на меня». Он находился в точности на той позиции, которую описывал Фройд в «Я и Оно», и это проявилось в переносе. Он считал, что я говорю «ты должен быть таким же, как я», и в то же время — «ты не смеешь быть таким же, как я». Бог Иова говорит, что он создал человека по собственному образу и подобию; Уильям Блейк изобразил это в своей иллюстрированной версии Книги Иова, расположив совершенно одинаковых Бога вверху и Иова внизу на первом рисунке.
Однако суть прений Бога с Иовом заключается в том, что Иову запрещается даже думать о том, что он хоть отдаленно подобен Богу. Г-н Р. чувствовал себя ущербным, потому что никогда не мог удовлетворить желания своей матери. Она основала свой Эго-идеал на [образе] своего отца и жила разочарованной в том, что она женщина. Пациент, будучи ее сыном, чувствовал, что что-то в нем ей не нравится, и в то же время между ними существует сходство, основанное на некоем общем изъяне. Также он чувствовал, что не должен радоваться своей возникающей мужественности, поскольку это вознесло бы его над матерью.
Г-н Р., ученый-биолог среднего возраста, обратился ко мне за анализом несколько лет назад, поскольку испытывал беспокойство, депрессию и не мог жить полноценно. Ранее он проходил психотерапию, которая прекратилась, когда его терапевт уехала за рубеж. Он же остался с ощущением неудачи и не в состоянии понять, что он думает о своем бывшем терапевте.
Г-н Р. был счастливо женат, имел троих детей и хорошую работу в избранной им академической области. Однако несмотря на свою высокую квалификацию и очевидную компетентность он считал себя худшим специалистом, чем его коллеги, и в профессиональном плане не был в себе уверен. В частности, хотя он написал докторскую диссертацию, он никогда не публиковался по своей специальности. Когда мы приступили к анализу, мне стало понятно, что более всего в жизни ему причиняли беспокойство отношения на работе. В частности, он показался мне запуганным своими коллегами-женщинами, даже в тех случаях, когда ему надлежало исполнять ведущую роль. Если он защищал свои собственные идеи, то становился чрезвычайно тревожным, опасаясь некого ужасного неопределенного возмездия. Несмотря на свои выдающиеся аналитические способности, он не связывал эти вспышки страха перед своими коллегами с теми скромными попытками самоутверждения, что им предшествовали. И хотя передо мной он эту связь раскрыл, сам, казалось, оставался в неведении относительно непосредственного источника своих тревог.
В анализе наблюдался один повторяющийся мотив. Пациент прояснял мне, без подробного описания, ситуацию на работе, никак не определяя ни ее, ни своих ощущений в этой связи. Я, давая ему интерпретацию какого-то момента, в нескольких словах подытоживал ситуацию, которую он обозначил. На эту часть интерпретации он реагировал, и трактовал ее так, будто я сообщал ему нечто новое о его коллегах или его чувствах по отношению к ним. Например, он рассказал мне о рабочей группе, которую формально возглавлял он, а верховодила в ней г-жа Х., его ассистент. Он подробно обрисовал план проекта и свои попытки выразить некое мнение или поднять некие вопросы,— все они были проигнорированы этой женщиной. Он описал, как молча соглашался с этим. Мне послышалась в его рассказе сильная боль, возникло впечатление, что он расстроен и потерпел поражение, но пациент ни словом не обмолвился об этих чувствах.
Я дал интерпретацию, что он чувствует, что его игнорировали и его мысли были оставлены без внимания женщиной, не заинтересованной ни в чем кроме своих собственных идей. Затем я предположил, что этого же он ожидает от меня в анализе.
Примечательно, что г-н Р. воспринял мое описание своей коллеги, которую он же столь живо обрисовал, как новость для себя. Он воспринял это не просто как новость, но как мое знание, мое мнение, сформированное независимо от него. Он отреагировал следующими словами: «Я понимаю, что Вы имеете в виду. Конечно, все идеи наподобие той, что касается Вас,— просто проекция. Но я думаю, не исключено, что Вы правы относительно г-жи Х., ваше мнение о ней звучит очень убедительно».
Итак, для г-на Р. было безопасно иметь представление о г-же Х., если автором этого представления оказывался его аналитик. Как выяснилось, это относилось и ко всем идеям вообще. Г-н Р. не мог доводить до конца свои мысли. Наблюдения, рассуждения и ассоциации наличествовали, но выводы отсутствовали, что оставляло ложное впечатление его туповатости. По мере достижения некоторого прогресса я стал отдавать в себе отчет в том, насколько мой пациент умен. Мой комментарий о том, что он не способен пользоваться своим интеллектуальным достоянием, и я поражен тем, насколько он не способен вполне воспользоваться ничем из этого, привел к неожиданному результату. Г-н Р. часто жаловался на свое плачевное финансовое состояние, усугубляемое выплатой процентов и санкциями банка за превышение кредита. Теперь же он сообщил, что, оказывается, владеет еще и другой собственностью, унаследованной от матери; это имущество он не продал, не пользовался им, и никогда не думал о том, чтобы заработать на нем деньги. И в то же время — с трудом сводил концы с концами.
По мере продвижения в анализе эту повторяющуюся ситуацию сменила другая, в которой я как аналитик играл как будто бы более центральную роль. Я отметил, что все мои интерпретации г-н Р. повторял в пересказанном виде, при этом слегка видоизменяя то, что я считал проясняющими комментариями, так что они превращались в придирчивую критику или выражение неудовольствия им — что он с готовностью принимал. Иными словами, в своей душе он выстраивал такие взаимоотношения со мной, в которых подчинялся критичному, придирчивому аналитику и чувствовал себя удрученным и недооцененным, тихо жалуясь, но при этом уступая. Похоже, это было его «психическое убежище» (Steiner, 1993). Особенно интересным тут выглядит то, что это убежище было местом не иллюзорной удовлетворенности, но неудовлетворенности, поддерживаемой на терпимом уровне. Это было не место удовольствия, но место безопасности.
Но так как анализ прогрессировал, пациент был вытолкнут из этого анклава и стал более тревожным; он боялся, что я буду нападать на него на сеансах за самонадеянность. Если это чувство ослабевало, и он ощущал поддержку с моей стороны, он начинал бояться, что я подвергаю его ужасной опасности на работе со стороны других людей, требуя от него большего самоутверждения. На эту пугающую ситуацию пролил свет сон, относящийся к описываемому периоду. В этом сне он работал со своей группой, в которую входили только женщины во главе с г-жой Х. Он что-то рассказывал группе, и вдруг понял, что не вполне одет и его пенис открыт взглядам; тогда он пытался прикрыть свой половой орган бумагами.
Его ассоциации на этот сон сначала касались отношения к г-же Х. на работе, а затем покрывающих воспоминаний его детства, которые я уже несколько раз выслушивал. В этих воспоминания его, маленького мальчика, отчитывает мать по настоянию семьи соседей за то, что он слишком быстро катался на велосипеде возле «девочек» — то есть соседских дочерей. Ему казалось, что этих девочек его мать одобряла и считала их поведение приемлемым — к нему она так никогда не относилась. Из-за этого он подумал, что мать была бы им довольна, только если бы он был девочкой. В анализе это дало начало периоду воспоминаний и размышлений над теми аспектами его юности, которые до настоящего момента не нашли отражения или должного внимания в анализе, хотя он упоминал о них, придя ко мне на консультацию. В детстве он был довольно энергичным мальчиком, но с наступлением подросткового возраста по воле своей матери стал более пассивным и избегал того, что она называла грубыми мальчишескими играми.
В период анализа, который последовал за вышеупомянутым сном, значительно ослабла блокировка, которая мешала ему писать статьи. Произошли также другие изменения: он возобновил занятия активным спортом и воспользовался своим наследством. Однако г-н Р. стал бояться некоего неопределенного невезения, которое могло последовать за таким высокомерием, и чувствовал вину перед теми, от кого он зависел в прошлом, особенно перед матерью. У него возникло чувство, будто пользу от анализа можно истолковать как критику в адрес матери. Также он думал, что здесь подразумевается критика в адрес его предыдущего психотерапевта. Он полагал, что такое его самоутверждение она бы восприняла как нарциссическое самовозвеличение. Он воображал враждебные суждения со стороны всех и каждого; однако критические суждения о других ему было сформировать трудно. Для нас обоих стало более очевидно, что его мать страдала хронической депрессией; а также что его отец был тихим человеком и побуждал сына соглашаться с матерью. Будучи ребенком, г-н Р. много размышлял о душевном состоянии своей матери и ее убеждениях, и теперь эти идеи вернулись. Он был уверен, что она осталась чрезвычайно разочарованной отношениями со своим отцом, и чувствовала, что, будучи девочкой, не обладала тем, что вызывало бы восхищение и уважение ее отца.
Я трактую это так, что мать г-на Р. спроецировала свою ущербную самость на своего сына и затем относилась к нему как к человеку, в некоем неопределенном отношении неправильному. Он же всегда это ощущал и, чтобы приблизиться к матери, идентифицировал себя с ее образом его. Иными словами, он полагал, что для того, чтобы мать его признала, он должен соответствовать ее представлению о нем. Для таких людей существует значительный риск обрести в анализе прекрасную возможность для повторного разыгрывания (re-enactment). Аналитическое Супер-Эго, как в личности аналитика, так и в качестве религии, Верховным Жрецом которой аналитик является, явлено с самого начала. Полезность такого анализа зависит от развития скептицизм пациента; у аналитика же возникает искушение этот скептицизм уничтожить. В скептицизме был обвинен Иов, который «пьет глумление, как воду» (Иов 34:7).
Мой пациент ожидал подобных обвинений и соответственно смягчал свои критические комментарии. Он обладал хорошей способностью к суждению и естественным скептицизмом не оборонительным и не злобным, но подчинял его всякому мнению, которое можно было заподозрить у меня, или же тем предкам, которым я, по его подозрениям, поклонялся. Именно этот способ существования должен был измениться в ходе анализа, но на каждом шагу, когда пациент побуждал меня оправдываться, как Иов — Бога, он должен был сказать, подобно Иову: «страх Его да не ужасает меня,— и тогда я буду говорить». Обретение его Эго независимости от враждебных суждений потенциально завистливого Супер-Эго достигалось только путем отстаивания своего права выносить суждения о своем собственном внутреннем критике. Хотя эту функцию невозможно заглушить, можно вынести ей оценку; подобным образом мы не можем заглушить авторитарных морализаторов в наших психоаналитических сообществах, однако могли бы выносить наши собственные суждения о них.
раздел "Статьи"
Жак Лакан "Стадия зеркала, как образующая функцию Я"
Серж Лебовиси "Теория привязанности и современный психоанализ"
Томас Огден. Что верно и чья это была идея?