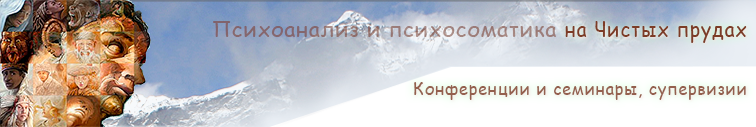Жак Лакан "Стадия зеркала, как образующая функцию Я"
Le stade du miroir comme formateur de la fonction du Je (J.Lacan. Ecrits I. Ed. Du Seuil. 1966. pp. 89-97)*

Стадия зеркала как образующая функцию Я, какой она раскрылась нам в психоаналитическом опыте.
Введенное мною на предыдущем нашем конгрессе тринадцать лет назад понятие стадии зеркала в дальнейшем более или менее вошедшее в обиход французской группы, представляется мне достойным быть лишний раз предложенным вашему вниманию: сегодня — в особенной связи со светом, который оно проливает на функцию я в рамках предоставляемого о нем психоанализом опыта. Опыта, о котором надо сказать, что он ставит нас в оппозицию любой философии, исходящей прямо из Cogito.
Быть может, среди вас кто-либо вспомнит тот аспект поведения, из которого мы исходим, освещаемый следующим фактом сравнительной психологии: человеческий детеныш в том возрасте, когда он на короткое, но все-таки еще заметное время, превзойден шимпанзе в орудийных способностях мышления, уже узнает, однако, в зеркале как таковой свой образ.
Узнавание, о котором сигнализирует иллюминационная мимика Aha-Erlebnis , в которой для Кёлера выражается ситуационная апперцепция, существенная фаза мыслительного акта.
В самом деле, этот акт, далекий от того, чтобы исчерпаться, как у обезьяны, единожды приобретенным контролем над бессодержательностью образа, тут же возобновляется у ребенка в серии жестов, в которых он в игровой форме испытывает отношение принятых на себя образом движений к его отраженному окружению и этого виртуального комплекса к удвояемой им реальности, а именно, к своему собственному телу и лицам или же объектам, которые находятся с ним бок о бок.
Произойти это явление может, как известно со времен Болдуина, начиная с шестимесячного возраста, и его повторение часто задерживало наше размышление в присутствии захватывающего зрелища грудного младенца перед зеркалом — он пока еще не овладел ходьбой и даже и стоячим положением, но, подхваченный человеческой или искусственной поддержкой (то, что во Франции называют trotte-bébé), превозмогает в ликовании занятости путы этой опоры, чтобы задержаться в более или менее наклонной позиции и восстановить, дабы его зафиксировать, мгновенный облик образа.
Вплоть до восемнадцатимесячного возраста активность эта сохраняет для нас тот смысл, который мы ей придаем — и который в не меньшей степени выявляет вплоть до настоящего времени остающийся проблематичным либидинальный динамизм, чем онтологическую структуру человеческого мира, каковая вписывается в наши размышления о параноическом сознании.
Здесь достаточно понимать стадию зеркала как некую идентификацию во всей полноте смысла, придаваемого этому термину анализом, а именно, как трансформацию, происходящую с субъектом, когда он берет на себя некий образ, — на чью предрасположенность к этому стадиальному эффекту достаточно четко указывает использование в теории старинного термина imago.
Ликующее приятие своего зеркального образа существом, еще погруженным в моторное бессилие и зависимость от питания, каковым на этой стадии инфанс является младенец, отныне в образцовой ситуации проявит, на наш взгляд, ту символическую матрицу, в которой я оседает в первоначальной форме, прежде чем объективизироваться в диалектике идентификации с другим и прежде чем язык всесторонне не воссоздаст ему функцию субъекта.
Эту форму, если мы хотим заставить ее войти в знакомый регистр, стоило бы, впрочем, назвать идеальным я, в том смысле, что она будет еще и источником вторичных идентификаций, чьи функции либидинальной нормализации мы распознаем под этим термином. Но важным пунктом здесь является то, что эта форма задолго до социальной определенности располагает инстанцию эго на линии вымысла, никогда не подлежащей изменению для отдельного индивида, — или, скорее, которая лишь асимптотически воссоединится со становлением субъекта, каким бы ни был успех диалектического синтеза, посредством, которого он должен растворить в качестве я свое несоответствие своей собственной реальности.
Дело в том, что целокупная форма тела, посредством которой субъект опережает в мираже созревание своих возможностей, дана ему лишь как гештальт, то есть во внешности, где, без сомнения, форма эта более устанавливающая, нежели установленная, но где, помимо того, она ему является со статуарной рельефностью, которая ее выкристаллизовывает, и в симметрии, которая ее инвертирует, в противовес к завихрению движений, его, как он ощущает, оживляющих. Таким образом, этот гештальт, содержательность которого должна рассматриваться как связанная с родом и видом, хотя движущий ее стиль еще и не признан, двумя этими аспектами своего проявления символизирует ментальное постоянство я и, в то же время, предвосхищает свое назначение: он еще чреват соответствиями, которые соединяют я со статуей, на которую человек проецирует себя, как и с призраками, его подавляющими, с автоматом, наконец, в котором в двойственном отношении стремится завершиться мир его изготовления.
В действительности, для этих imago, а наша привилегия — видеть, как вырисовываются в повседневном нашем опыте и в полутьме символической действительности их завуалированные лики, — зеркальный образ является, кажется, порогом видимого мира, если мы полагаемся на расположение в зеркале, аннулирования, перемещения — навязчивого невроза.
Но построенные только на этих субъективных данных, сколь бы мы их ни раскрепощали от условий опыта, которые заставляют нас принять их через посредство языковой техники, наши теоретические попытки остаются уязвимыми для упрека в том, что они проецируются в немыслимое некого абсолютного субъекта: вот почему мы искали в основанной здесь на поддержке объективных данных гипотезе направляющую решетку метода символической редукции.
Она устанавливает среди защит эго генетический порядок, который отвечает сформулированному Анной Фройд в первой части великого ее труда обещанию и относит (вопреки часто выражаемому предубеждению) истерическое торможение и его повторы к стадии более архаической, чем навязчивую инверсию и ее изолирующие процессы, а этих последних — к предваряющим параноическое отчуждение, которое датируется виражом от зеркального я к я к социальному.
Тот момент, когда завершается стадия зеркала, через идентификацию с imago подобного и драму первоначальной ревности (столь хорошо подчеркнутую школой Шарлотты Бюлер в фактах детского транзитивизма) кладетпредставляемое в галлюцинациях и во сне imago собственного тела, индивидуальных чертах, пусть даже недугах, или его объектантных проекциях, или если мы замечаем роль зеркального аппарата в появлении дубля, в котором о себе заявляют психические, впрочем гетерогенные, реалии.
Что гештальт способен на формообразующие действия на организм, засвидетельствовано биологическим экспериментом, самим по себе столь чуждым идее психической причинности, что ему никак не решиться сформулировать ее как таковую. Он все же признает, что вызревание гонады у голубки в качестве необходимого условия требует взгляда на ей подобную особь вне зависимости от пола оной, — и столь достаточного, что искомое воздействие на индивидуума достигается простым помещением его в поле отражения зеркала. Так же переход в потомстве саранчи одиночной формы к экземплярам формы стадной достигается путем того, что индивидуум подвергается на некоторой стадии исключительно визуальному воздействию подобного образа, если только он оживляется движениями, не слишком отличными по стилю от движений его вида. Факты, вписывающиеся в разряд гомеоморфной идентификации, которую мог бы охватить вопрос о смысле красоты как формативной и как эрогенной.
Но представленные как случаи гетероморфной идентификации случаи миметизма интересуют нас здесь лишь поскольку они ставят проблему значения пространства для живого организма, — поскольку психологические концепции кажутся не более неподходящими, чтобы пролить свет, чем забавные усилия, предпринимавшиеся для того, чтобы свести их к так называемому основному закону адаптации. Напомним только молнии, которые заставила засверкать мысль (тогда молодая, свежепорвавшая с социологической епархией, где она была сформирована) Роже Кайуа, когда под термином легендарная психастения он включает морфологический миметизм в одержимость пространством в его дереализующем действии.
Мы сами вскрыли в социальной диалектике, структурирующей как параноическое человеческой сознание, причину, которая делает его более автономным, нежели сознание животного, от поля сил желания, но также и детерминирует его в той «малости реальности», которую отвергает сюрреалистическая неудовлетворенность. И эти размышления побуждают нас признать в манифистируемом стадией зеркала присвоении пространства действие на человека, преманентное даже этой диалектике, органической недостаточности его природной реальности, если мы действительно придаем какой-то смысл термину природа.
Функция стадии зеркала оказывается для нас отныне частным случаем функции imago, каковая — установить отношение организма с его реальностью, или, как говорят, Innenwelt'a с Umwelt'ом.
Но это отношение с природой искажено у человека неким рассыханием организма в своих недрах, первичным раздором, знаки которого обнаруживают болезни и отсутствие моторной координации послеродовых месяцев. Объективное понимание анатомической незавершенности пирамидальной системы, как и гуморально-гистерезисного последействия материнского организма, подтверждает этот взгляд, который мы формулируем как данные истинной специфической родовой преждевременности у человека.
Отметим по ходу дела, что как таковые эти данные признаются эмбриологами под термином фетализация, чтобы определить превосходство так называемых высших аппаратов центральной нервной системы, и, особенно, коры головного мозга, которую психохирургическое вмешательство приводит нас к мысли представлять себе как внутриорганическое зеркало.
Это развитие переживается как временная диалектика, решительно проецирующая формирование индивидуума на историю: стадия зеркала есть драма, внутренний посыл которой стремительно развивается от недостаточности к опережению — и которая для субъекта, пойманного на наживку пространственной идентификации, измышляет фантазмы, постепенно переходящие от раздробленного образа тела к форме, каковую мы назовем ортопедической для его целостности, — и, наконец, к водруженным на себя доспехам некой отчуждающей идентичности, которая отметит своей жесткой структурой все его умственное развитие. Так разрыв круга от Inneiwelt'a к Umwell'y порождает неразрешимую квадратуру инвентаризации эго.
Это раздробленное тело, которое я в качестве термина допускаю таким образом в нашу систему теоретических отсылок, регулярно является в снах, когда аналитический импульс соприкасается с некоторым уровнем агрессивной дезинтеграции индивидуума. Оно появляется тогда в форме разъятых членов и экзоскопически представленных органов, которые окрыляются и вооружаются для внутренних преследований, навсегда запечатленных в живописи визионером Иеронимом Босхом на их подъеме в пятнадцатом веке в воображаемый зенит современного человека современного Но эта форма осязаемо проявляет себя с органической точки зрения в направлении охрупчивания, определяющем фантазматическую анатомию, явную в шизоидных или спазмодических симптомах истерии.
Коррелятивно формирование я символизируется в сновидениях укрепленным лагерем, и даже стадионом, — распределяющим от внутренней арены до внешней своей ограды, до своего окаймления из строительного мусора и болот, два противоположных поля борьбы, где субъект запутывается в поисках надменного и далекого внутреннего замка, форма которого (подчас встроенная в тот же сценарий) захватывающим образом символизирует оно. И точно так же, уже с ментальной точки зрения, найдем мы здесь реализованными те структуры оборонительных укреплений, метаформа которых возникает спонтанно и как выход самих симптомов субъекта, чтобы указать на механизмы инверсии, изоляции, удвоения, начало диалектике, отныне связывающей я с социально разработанными ситуациями.
Именно этот момент и заставляет решительно опрокинуть все человеческое знание в опосредованность желанием другого, устанавливает его объекты в абстрактной эквивалентности через соперничество другого, и делает из я тот аппарат, для которого любой позыв инстинктов будет опасностью, даже если он и отвечает естественному созреванию, — причем сама нормализация этого созревания отныне зависит у человека от культурного посредника: как случается с сексуальным объектом в комплексе Эдипа.
Термин и понятие начального нарциссизма, которыми доктрина обозначает свойственное этому моменту либидинальное вложение, в свете нашей концепции вскрывает у своих изобретателей глубочайшее понимание латентностей семантики. Но она освещает также динамическую оппозицию между этим либидо и либидо сексуальным, которую они пытались определить, когда ссылались на инстинкты разрушения и даже смерти, чтобы объяснить очевидную связь нарциссического либидо с отчуждающей функцией я, с агрессивностью, которая при этом высвобождается при любом, пусть даже и самой самаритянской помощи, отношении к другому.
Дело в том, что они коснулись той экзистенциальной негативности, реальность которой столь живо выдвинута современной философией бытия и ничто.
Но эта философия ухватила ее, к сожалению, лишь в пределах самодостаточности сознания, которое, чтобы вписываться в свои посылки, приковывает к определяющим эго недооценкам иллюзию автономии, которой она и доверяется. Игра разума, которая, чтобы питаться главным образом заимствованиями из аналитического опыта, достигает кульминации в претензии на утверждение экзистенциального психоанализа.
В конце исторической затеи общества — больше не признавать за собой иных функций, кроме утилитарных, и в тревоге индивидуума перед концентрационной формой социальной связи, возникновение которой, кажется, вознаграждает это усилие, экзистенциализм осуждает себя на оправдание тех субъективных тупиков, каковые и в самом деле отсюда проистекают: свободы, которая нигде не утверждается так аутентично, как среди тюремных стен, требования ангажированности, в котором выражается бессилие чистого сознания превозмочь какую-либо ситуацию, войяристко-садисткой идеализации сексуальных отношений, личности, каковая реализуется только в самоубийстве; сознания другого, которое удовлетворяется лишь гегелевским убийством.
Весь наш опыт восстает против этих утверждений, постольку поскольку он не дает нам принять эго в качестве центрированного на системе восприятия-сознания, в качестве организованного «принципом реальности», в котором формулирует себя наиболее противоречащее диалектике сознания сциентистское предубеждение, — дабы указать нам, что исходить надо из функции незнания, характеризующей его во всех структурах, столь сильно изложенных Анной Фройд: ибо если Veктeinung представляет его явную форму, воздействия его остаются по большей части скрытыми, пока не будут освещены неким отраженным светом в плоскости неизбежности, где проявляется оно.
Так понимается та свойственная образованию я инерция, в которой можно видеть самое расширительное определение невроза, — как и присвоение субъекта ситуацией дает самую общую форму безумия, и того, что ютится в стенах лечебниц, и того, что оглушает землю своим шумом и яростью.
Муки невроза и психоза суть для нас школа душевных страстей, как коромысло психоаналитических весов, дающее нам, когда мы исчисляем наклон их угрозы целым общностям, указание к смягчению городских страстей.
В этой же точке стыка природы с культурой, упрямо прощупываемой антропологией наших дней, только психоанализ признал узел воображаемого рабства, который любовь должна всегда вновь развязывать или разрубать.
Для такого дела альтруистическое чувство ничего не сулит нам, насквозь проницающим агрессивность, которая лежит в основе филантропической, идеалистической, педагогической и даже реформаторской деятельности.
В надеждах, которые мы сберегаем от субъекта к субъекту, психоанализ может сопровождать пациента до самого экстатического предела «Вот это ты», где ему раскрывается шифр его смертной судьбы, но не единственно в нашей власти практиков подвести его к тому моменту, где начинается истинное путешествие.
* - Modern research in this area, see Mirror test
Раздел "Статьи"
Серж Лебовиси "Теория привязанности и современный психоанализ"
Томас Огден. Что верно и чья это была идея?
Рональд Бриттон. Интуиция психоаналитика: выборочный факт или сверхценная идея?