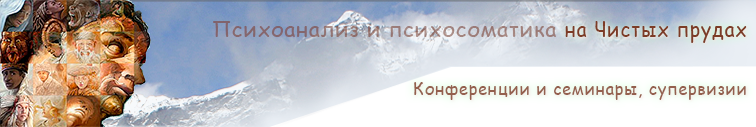Серж Лебовиси "Теория привязанности и современный психоанализ"
Бернар Гольс "О привязанности".
Доклад на франко-русском коллоквиуме по психоанализу (Москва, 1997, июнь)
Перевод с французского Г. М. Северской, научная редакция Н. К. Асановой
Вступление
Пациент заявляет: «Я потерял объект моей привязанности». Речь идет об игрушке, о которой он теперь вспоминает, о пожарной машинке, с которой он играл в четыре года; она была красная, металлическая, он поранил себе руку, играя с ней; если покрутить ручку, можно было поднять лестницу, «настоящий фаллос». Но он не знает, что случилось с этой машинкой. Отсюда его заявление о потере. В начале сеанса он рассказал о своем сне: он приезжает на вокзал в городе, где живет его мать, вдова; он оставляет в камере хранения огромный рюкзак, потом у него дома в погребе книги лежат в ящиках с песком. Я предложил гипотезу, по которой этот сон означает желание отказаться от сложных жизненных обязанностей и обнаженным вернуться к матери. Но воспоминание об этой игрушке детства, насыщенной аллегорической и метафорической ценностью (пожарный, лестница, красное, рана), приходит к нему в конце сеанса и демонстрирует, что отдаленное воспоминание делает возможным представление — и «изложение» — конфликтных связей с объектом любви, матерью, и сексуальными волнениями детства. Являются ли эти связи простой привязанностью? Во всяком случае, такова версия тех, кто следует теории привязанности Боулби. Пример, который мы выбрали и который был бы весьма банальным, если бы пациент не заговорил об «объекте привязанности», показывает, что сценарий, изложенный на сеансе, позволяет восстановить превратности инвестирования объекта желания.
Здесь мы остановимся на решающем влиянии Боулби на развитие исследований привязанности, прежде всего американских, а также покажем, что пересмотр Фройдовской метапсихологии, к которому неизбежно ведет интерактивная теория привязанности, может открыть нам интересные перспективы в отношении понимания развития психической жизни младенца и его представлений о себе.
Но Боулби до конца своей жизни заявлял, что остается верным психоанализу в его первоначальном, Фройдовском варианте.
Развитие психоаналитических воззрений Боулби, изложенное им самим.
Первое упоминание о психоаналитических исследованиях Джона Боулби относится уже к концу 1950-х годов. Впоследствии он объяснит причины, которые привели его к такой глубокой модификации Фройдовской теории генезиса объектной связи. Сохранилось объяснение по этому поводу, данное им 30 лет спустя, в 1988 г.: «Несколько лет назад я в качестве психиатра некоей семьи исследовал поведение маленьких детей, оторванных от своей семьи и порученных заботам чужого человека. Они явно показывают свою тяжелую тоску и отчаянное желание вновь обрести свою мать. Таким образом, встает вопрос об объяснении происхождения и природы этой необыкновенно интенсивной связи между ребенком и матерью. Согласно единственной теории того времени, ребенок эмоционально привязывается к своей матери, поскольку она его кормит. Я не был удовлетворен этим ответом и обрадовался, ознакомившись с идеями Конрада Лоренца. Этологи, как я обнаружил, также интересовались изучением тесных связей между малышами и их родителями у представителей многих биологических видов, а не только человека. Кроме того, поскольку они были профессиональными биологами, их подход в корне отличался от того, который я до сих пор встречал у психологов и психиатров. Связи между людьми, как я узнал тогда, могут быть изучены экспериментально, и их важность для выживания можно понять в свете теории эволюции». Несколькими строками ниже мы читаем: «Теперь, тридцать лет спустя, я счастлив, что пошел по этому направлению... (действительно) программы исследований основаны на биологии, подобно программам психиатров-"физиологов", неоправданно присвоивших название биологической психиатрии». И наконец, Джон Боулби объясняет в той же работе основы «этого нового подхода»: «Главные положения, которые я запомнил, следующие:
1) значимые эмоциональные связи между людьми необходимы для их
выживания и, следовательно, имеют первичную ценность;
2) они могут быть поняты, исходя из кибернетических контуров,
находящихся в нервной системе каждого партнера; функция этих связей
— поддерживать их близость или доступность;
3) для эффективных действий каждый партнер строит в своей
психической системе модели себя и других, а также паттерны
взаимодействий, установленные ими между собой;
4) такие соображения требуют, чтобы теория генезиса развития
заменила теории, описывающие специфические фазы развития и
постулирующие, что человек может быть зафиксирован на этих фазах или
регрессировать к ним».
Первые психоаналитические работы, свидетельствующие о новых позициях Боулби, относятся к концу 1950-х — началу 1960-х гг. В 1958 г. он завершает объемистый труд «О природе связей между ребенком и его матерью» предложением отказаться от термина «зависимость», который уместен, по его мнению, только при описании вторичных связей. «Психологическая привязанность по своей природе совершенно отлична от зависимости от удовлетворения физиологических потребностей. Это означает, что психологическая привязанность и потеря привязанности — понятия, имеющие собственный статус, независимый от потребности ребенка в том, чтобы его физиологические нужды удовлетворялись объектом. Таким образом, мы уже не можем довольствоваться утверждением об эквивалентности груди и матери или говорить об оральной связи и первичной аналитической связи». В 1958 г. Боулби критиковал термин «тревога разлуки», предлагая понятие «разрыв связей привязанности».
Таким образом, мы хорошо видим, какой путь проделал Дж. Боулби за
эти тридцать лет, вероятно, под влиянием критики, которой он
подвергся в связи с его встречами с Лоренцем, изучением работ
приматолога Харлоу в Йельском университете, чтением Пиаже и,
наконец, его интересом как семейного психиатра к информатике и
кибернетике.
Теперь рассмотрим последствия такого драматического пересмотра этих
работ и позицию Дж. Боулби по отношению к психоанализу и
психоаналитикам.
Отказ Дж. Боулби от теории поддержки, основного постулата Фройда при
описании рождения репрезентации объекта, сблизил его с
нейросайентистами (представителями нейробиологических наук).
Следует напомнить, что современная этология мало подвержена влиянию
бихевиоризма, и ей непонятна антропоморфическая наивность тех, кто
психологизирует исследования поведения животных, которые, по мнению
этих специалистов, интересны исключительно тем, что делают
возможными психофизиологические эксперименты над изучаемым в
генетическом и нейробиологическом плане поведением.
Но исследования интеракций, способствующих привязанности,
направлены в принципе на первичное поведение, поддерживающее
социальную близость между младенцем и тем, кто его воспитывает;
взаимный импринтинг определяет запрограммированные способы
поведения, на которых строится диалог этих интерактивных партнеров:
так, мать превращает ранние навыки младенца в умения. Дж. Боулби
объясняет, что некоторые жесты младенца не имеют иного значения,
кроме филогенетических остатков. Самое большее, что он допускает:
эти жесты могут стать объектом материнских интерпретаций, которые
Рене Дяткин и я предложили называть «творческое предвидение». По Дж.
Боулби, так обстоит дело, например, когда младенец протягивает руки
к матери, точно так же, как обезьянка, бегущая к матери, чтобы
прицепиться к ее груди. Таким образом, Дж. Боулби признает правоту
И. Германна, когда говорит об истинкте цепляния (Негтапп, 1972).
Но психоаналитики, особенно в США, описывали данные интеракции, не
уделяя внимания влиянию этих работ на Фройдовскую теорию. Вспомним,
однако, еще раз, что принятие точки зрения Боулби ведет к отказу от
теории поддержки импульса и инвестирования объекта, а также от
теории галлюцинаторного генезиса репрезентации объекта.
Как мы уже видели, в 1988 г. Дж. Боулби называет себя биологическим
психиатром. Но в своих недавних работах он продолжает считать себя
психоаналитиком. В 1981 г. он определяет
свою теоретическую и техническую позицию: он считает, что
неприемлемы ревизионистские предложения, делающие психоанализ
герменевтической дисциплиной или опытом повествования. Теория
привязанности — этим термином пользовались, как он напоминает,
Зигмунд Фройд и Анна Фройд — закрепляет психоанализ в области наук о
природе, как того решительно желал сам создатель психоанализа. В
этой работе Дж. Боулби, напоминая о своих гипотезах как исходящих из
других научных областей, считает, что они позволяют описать модели
сознательных и бессознательных процессов, а также различия между тем,
что можно назвать причиной, функцией и целью определенного вида
поведения.
Эти взгляды, надо отметить, заставляют Дж. Боулби предложить
значительные изменения психоаналитической техники: «Искусство
психоаналитической терапии должно вдохновляться эмпатией и уважением
к индивиду, живущему в уникальном, только ему присущем мире» (резюме
статьи Боулби «Психоанализ как естественная наука» во французском
переводе).
Боулби считает, что теоретически он верен Фройду, так как основная
гипотеза той дисциплины, которую он называет сегодня
психопатологией развития, состоит в том, что «истоки психического
здоровья и болезни можно найти в детстве. Чтобы понять
функционирование человека в настоящее время, необходимо знать, каким
образом он/она стал/стала мужчиной или женщиной, которых мы видим
сегодня».
Дж. Боулби считает, что эпидемиологические исследования подтверждают
такие взгляды. Он пытается это показать, пользуясь исследованиями
депрессии женщин в общей популяции: депрессия предполагает сочетание
факторов, среди которых выявляются: серьезная утрата в год,
предшествующий ее началу, отсутствие человека, который мог бы
оказать поддержку, и плохие жизненные условия. Но Дж. Боулби
настаивает на частоте исторической переменной, а именно утраты
матери в возрасте до 11 лет. Вследствие важности исторических
факторов такого рода в этиологической констелляции Дж. Боулби
настаивает на прогностической ценности первичных особенностей
привязанности, как они были определены М. Эйнсворт в 1969 г.
1) здоровый фактор: ребенок пользуется привязанностью, дающей ему
чувство безопасности, поскольку фигуры привязанности легко
достижимы и помогают ребенку переносить неблагоприятные
обстоятельства;
2) нездоровая привязанность: ребенок тревожится, так как не уверен в
доступности того, кто представляет привязанность;
3) другой тип патогенных отношений привязанности характеризуется
тревогой избегания, когда ребенок не находит контакта со своим
объектом или когда объект постоянно отталкивает его. Дж. Боулби
считает, что такая типология способствует прогнозу.
На основе сделанных выводов он определяет психопатологию развития, которая, исходя из этих паттернов привязанности, позволяет предусмотреть уязвимость или стойкость каждого индивида перед лицом жизненных событий. Выдвинув такую гипотезу, Дж. Боулби подчеркивает ценность длительных лонгитюдных исследований, каковы бы ни были их сложность и стоимость: по его мнению, они столь же важны, как биологические исследования изменений иммунитета. Но, принимая во внимание одновременно эти первоначальные варианты типологии интеракций, события, имевшие место впоследствии в жизни тех и других их участников, и, наконец, их жизненный цикл, мы вправе говорить о психопатологии психического развития, ее биологических основах и ее подтверждении эпидемиологическими и клиническими исследованиями.
Как мы видим, Дж. Боулби свел психоаналитическую теорию к ее
прогностическому значению, принимая до некоторых пределов понятие
повторения способов поведения, существовавших в детстве, но не
сохраняя при этом совокупность метапсихологических соответствий,
относящихся к теории объектной связи и генезиса связей. Такая
позиция, вероятно, вызвала много дискуссий в психоаналитическом
сообществе. Здесь мы скажем только, что несомненное существование
связей ранней и взаимной привязанности не может заставить отказаться
от важности метафорических и конструктивных интерпретаций прошлого,
даже если неизбежно ставится под сомнение Фройдовский статус
рождения объекта и его психических репрезентаций. Но это уже другая
история!
В своей последней книге, опубликованной в 1990 г., Дж. Боулби верен
своей центральной идее, согласно которой наша биография зависит от
нашего детства. Эта книга посвящена Дарвину; в настоящее время
готовится ее французский перевод. Я не читал ее, но ознакомился с ее
анализом, подготовленным Джоном Пейделем. Боулби думает, что
Чарльз Дарвин, потерявший мать в восемь лет, так и не преодолел этот
траур: у него не осталось никакого воспоминания о ней. При этом, как
мы знаем, Дарвин страдал хронической тревогой, сопровождавшейся
болями в желудке. Боулби выявляет среди этиологических факторов
тяжелых депрессивных приступов, которыми страдал Дарвин, ситуации,
вновь воплощающие тревогу сепарации: отъезд из Англии в морское
путешествие с целью доказать себе свою выносливость, расставание с
супругой в начале ее первой беременности, переживания, связанные с
неприятием его произведений. Мы знаем, что обнаружены очень
интересные заметки Дарвина о развитии двух его старших детей. Боулби
задается вопросом: не пытался ли Дарвин таким образом доказать себе,
что его раннее детство было счастливым? Не стоит, конечно, вдаваться
в дальнейшие детали, чтобы доказать, что вплоть до конца своей
жизни Дж. Боулби был убежден, что важность, которую он придавал
ранним эпизодам биографии, свидетельствует о его верности
Фройдовскому открытию.
Привязанность и утрата
Три толстых тома, опубликованных Дж. Боулби в 1969-1980 гг., были
переведены на французский язык и изданы в переводе в 1978-1984 гг.
Они, без сомнения, получили широкий отклик в мире психологии и
являются необходимым справочным материалом, в особенности первый том,
посвященный привязанности. Но эти труды мало повлияли на психоанализ,
особенно во Франции, что, конечно же, несправедливо. Мы напомним
здесь некоторые положения этих работ, что, впрочем, не может
заменить их прочтения.
В первом томе — «Привязанность» (1969) — Боулби постоянно
подтверждает свою верность Фройду, о чьем интересе к прямому
наблюдению за развитием ребенка он и напоминает. Но обнаружение
связанного с чувством покинутости страдания детей, разлученных с
матерями и наблюдавшихся Джеймсом Робертсоном (1953) в детских яслях
в Хэмпстеде во время войны, наводит Боулби на мысль о том, что
значимость связей между матерью и ребенком важнее, чем оральная
зависимость ребенка. Он ориентируется на изучение «инстинктивного
поведения»; он начинает изучать его системную регуляцию,
предполагающую «способность к адаптации» к окружающей среде, которая
проявляется в поведении человека «степенью и способом вклада в
сохранение популяции первичного окружения человека». Для Дж. Боулби
речь идет о другом варианте того, что Хайнц Хартманн определял как «приемлемая
окружающая среда человека». Но Дж. Боулби подчеркивает
регулирующее значение для приматов человеческого рода эффектов
обратного действия, проявляющихся, например, благодаря речи.
Определенные последовательности поведения активируются
физиологическими и особенно гормональными причинами, но также
скрытыми и подчас противоречивыми тенденциями, выявление которых —
задача психоанализа. Сенсорность заставляет чувствовать эти скрытые
тенденции, но чувства и эмоции дают возможность квалифицировать,
признать их, даже если речь может выразить их лишь в недостаточной
степени. По этому краткому изложению идей, выдвинутых Дж. Боулби,
можно понять, что ему понадобилось уточнить, в каком смысле он
использует термин «инстинкт»: в этой книге мы находим рассуждение,
которое необыкновенно похоже на то, что во Франции понимают под
термином «импульсы». Дж. Боулби напоминает здесь, что инстинктивное
поведение определяется, помимо прочего, и отпечатком-импринтом,
который приводит его в действие.
В этих условиях поведение привязанности существует и у человека, оно
всеобще, проявляется во всех возрастах и по отношению ко многим
людям, помимо близких родственников; оно предъявляет свои требования
близости во многих ситуациях. Но Дж. Боулби, возвращаясь к работам
с приматами (не человеком), считает, что нельзя описывать его как
связанное с удовлетворением сексуальных потребностей. Оно всеобщее,
аффективное; это первичное поведение, которое в то же время связано
и с сексуальностью.
Его регуляция интерактивна. Но Боулби описывает случаи гармонии и
интерактивной несовместимости: например, со стороны младенца
проявление привязанности — антитеза исследовательскому игровому
поведению. У матери забота о ребенке может быть изолирована в
агрегате противоречивых способов поведения.
Подобным образом некоторые состояния ребенка активируют его
поведение привязанности, например, его усталость, голод, холод,
нездоровье. Мать также играет роль в активизации поведения
привязанности младенца, когда она покидает ребенка, избегает
близости с ним. Активирующими факторами являются и другие различные
события, такие, как отвержение со стороны других взрослых или
ситуации стресса и тревоги.
Дж. Боулби гораздо ранее, чем в работе, которую мы здесь кратко
анализируем, описал хронологию первых реакций привязанности у
младенца по отношению к значимым людям. В частности, им описаны
ориентация младенца в направлении человеческого лица, поворот головы
и сосательные движения, хватание, цепляние и протягивание руки,
улыбки, крики и плач; он также показывает их постепенную, но
быструю фокализацию на матери, отличаемой ребенком. В то же время
Боулби считает, что замечания Шпица относительно тревоги восьмого
месяца слишком ограничительны, и поэтому их применение в области
общественного здравоохранения может представлять опасность.
В приложении, заключающем этот том, Боулби определяет свою позицию
по отношению к новому в психоаналитической теории. Он критикует
слишком расплывчатый, по его мнению, характер предложенного
Винникоттом описания «холдинга», но в достаточной степени
приближается к теориям так называемой венгерской школы и Ференци,
когда говорит об океаническом слиянии и о первичных связях. Кстати
отметим, что Дж. Боулби несколько раз ссылается на интерактивные «портреты»,
подобные тем, которые М. Давид и Ж. Аппель описывают с 1966 г.
Второй том (1973) посвящен теме «Сепарация, тревога и гнев». Он
содержит ссылки на клинически признанные факты; в нем описаны
индивидуализированные состояния психопатологии страха и тревоги.
Тревога сепарации характеризует угрозу психическому равновесию
грудного младенца, который должен иметь возможность «переживать
теплую и непрерывную связь со своей матерью (или женщиной, постоянно
замещающей мать), в которой оба могут обрести счастье и
удовлетворение». Именно такое состояние описывал Боулби уже в 1951
г. в своем отчете, адресованном Всемирной организации
здравоохранения.
Наблюдения последствий сепарации, собранные друзьями Боулби,
супругами Робертсон, позволили ему систематизировать их следующим
образом:
1) что происходит, когда ребенок, разлученный с матерью, вновь
обретает ее;
2 ) что происходит с более старшими детьми и даже взрослыми в случае
сепарации с дорогим им человеком или его смерти;
3) более поздние проявления тревоги после сепарации; различные
наблюдающиеся нарушения имеют, среди прочих, одну цель — укрепить
аффективные связи с образами родителей.
Таким образом, Дж. Боулби изучает семиологию страха и тревоги сепарации, т. е. в принципе различные формы фобий. Однако он критикует использование этого термина, который грозит слишком точным определением ситуации, вызывающей страх, тревожность или тревогу. Он в особенности не согласен с применением этого диагноза при детских «псевдофобиях», которые представляются ему скорее прямыми последствиями отсутствия матери, т. е. проявлениями тревоги сепарации, очень близкими к тому, что вызывает страх у животного.
Третий том — «Утрата: грусть и депрессия» (1980) — касается вопросов, посвященных трауру взрослого после потери супруга или ребенка, и рассматривает проблему траура в других культурах. По Дж. Боулби, на процесс работы траура влияет пять факторов:
• личность и роль утраченного человека;
• возраст и пол лица, переносящего траур;
• причины и обстоятельства утраты;
психологические и социальные обстоятельства, в которых находится
переживающее траур лицо в момент утраты эмоционально значимого
человека и после утраты;
• личность переживающего траур лица и, в частности, его способность
восстанавливать любовные связи.
Как видим, Дж. Боулби, определяя таким образом некоторые индивидуальные особенности работы траура, отдаляется от Фройдовских концепций интроективных идентификаций меланхолика. Он напоминает, что характерные черты траура взрослого человека связаны с внутренним миром привязанности, сложившимся в его детстве. В связи с этим Боулби в первый раз подробно говорит о своем интересе к теориям информатики и системным и кибернетическим моделям. «...(Когнитивные наклонности) являются для человека функцией моделей репрезентации его фигур привязанности и себя самого, которые он составил в своем детстве и отрочестве, и, если точки зрения, выдвинутые в этой работе, окажутся правильными, они, в свою очередь, являются функцией его опыта в семье на протяжении многих лет».
Дж. Боулби предлагает различать среди этих специфических и «когнитивных» наклонностей следующие:
• какую роль переживающее траур лицо признает за умершим человеком;
• как оно понимает свою собственную роль в утрате и как бы ее
рассматривал умерший человек;
• что этот человек ждет от лица, помогающего ему;
• до какой степени он сознает свои проекции на прошлое;
• до какой степени его ожидания открыты для новой информации.
Дж. Боулби изучает в этом третьем томе траур у ребенка: будучи верен генетическим концепциям Пиаже, он напоминает в конце этого тома о важности постоянства объекта в формировании траура у ребенка. Но в последней части своей книги он обращается к понятию репрезентации. Сам он пишет, что психоаналитики предпочитают говорить в этой связи о «фантазиях».
Отметим некоторые частности, на которые французские читатели Боулби
обращают недостаточное внимание:
1) связь привязанности описывается как свойство живого существа:
она характеризует животные качества человеческого существа скорее,
чем его желание объекта, галлюцинаторно представляемого, исходя из
орального удовлетворения, вновь вызванного к жизни его аутоэротизмом;
2) взаимные связи привязанности определены внутренними и рабочими
моделями;
3) понятие репрезентации, согласно способу употребления этого
термина в когнитивистской психологии, появляется в произведении
Боулби, который сближает репрезентации с фантазиями и не различает (во
всяком случае, насколько нам известно) сознательные и
бессознательные репрезентации.
Эти замечания представляются нам важными для тех, кто хочет понять,
как родилась в Америке психопатология развития. Разумеется — об этом
мы уже напоминали — Боулби заявлял о своей верности Фройду и
психоанализу, подчеркивая связи между психической патологией и
развитием. Но авторы, работающие в области психологии и
психопатологии развития, ссылаются на совершенно другие взгляды. Они
опираются на произведение Боулби и в особенности на его общую
гипотезу внутренних рабочих моделей привязанности и на парадигму М.
Эйнсворт, о которой пойдет речь далее.
Парадигма М. Эйнсворт.
После того как Дж. Боулби под эгидой Всемирной организации здравоохранения опубликовал свою работу о последствиях недостаточности материнского ухода (1951), та же организация (ВОЗ) поручила Мэри Эйнсворт произвести оценку последствий сепарации ребенка и матери; Эйнсворт представила несколько критических работ, продолжая сотрудничать с Боулби, именно в то время, когда он занимался драматическим пересмотром своих позиций, о котором речь шла выше, в результате чего он выдвинул гипотезу взаимной и общей привязанности.
В 1969 г. М. Эйнсворт предложила эксперимент «незнакомой ситуации», который теперь принято считать «парадигмой привязанности». Речь идет об исследовании, проходящем в лаборатории и направленном прежде всего на то, каким образом ребенок в возрасте одного года вновь встречает свою мать после длящейся несколько минут разлуки. Ребенок и мать играют в обычной комнате, где находятся игрушки, в присутствии незнакомого третьего лица. Мать выходит из комнаты, а наблюдатель пытается играть с ребенком, который с ним познакомился. Затем мать возвращается, а незнакомец выходит. Цель эксперимента — изучить условия повторной встречи матери и грудного ребенка. Эксперимент нередко нуждается в повторении.
Мэри Эйнсворт предлагает распределить детей, подвергавшихся этой процедуре, на три категории:
• группа А (37%), «недоверчивые»: встреча задерживается, пока
ребенок не прекратит играть в своем углу;
• группа В (50%), «доверчивые» (с чувством защищенности): дети этого
типа радостно принимают покинувшую их мать;
• группа С (13%), «амбивалентные»: поведение детей противоречиво.
Успех этой процедуры был и остается значительным, особенно в США. В
настоящее время она применяется к отцам с их детьми, чаще в возрасте
18 месяцев.
Мы считаем, что психоаналитику небесполезно задаваться вопросом о
причинах популярности процедуры эксперимента «незнакомой ситуации»:
• речь идет о простом испытании, которое легко можно организовать,
желательно в комнате, позволяющей вести наблюдение за ситуацией
через нетонированное стекло и записывать происходящее на
видеопленку;
• эксперимент достаточно стандартный, чтобы оправдать сходность
ситуаций;
«незнакомая ситуация» основана на простой гипотезе: краткосрочная и,
следовательно, в принципе не травматизирующая разлука является в
момент возвращения уходившего родителя парадигмой особенностей
привязанности у этого ребенка, другими словами, это позволяет
определить «рабочую модель» привязанности, которая устанавливается
у ребенка. Впрочем, шкала чувствительности матери к разлуке с
ребенком позволяет выявить особенности ее психической жизни; и, что
особенно важно, этот способ исследования в принципе не требует
никаких психопатологических или биографических соображений.
В настоящее время наблюдается настоящий эпистемологический скачок;
только что изложенные соображения объясняют его тактическую
важность в глазах тех, кто забывает о связях Боулби с психоанализом
и хочет доказать с помощью процедуры «незнакомой ситуации», что
можно признать равнозначными внутренние модели привязанности и
психические репрезентации матери, существующие у ребенка. Впрочем,
мы помним, что Боулби открыл дорогу в этом направлении,
предпочитая пользоваться понятием «познание», которое осуществляет
ребенок, а не говорить о его фантазиях о матери.
Различные исследования, проведенные исходя из парадигмы незнакомой
ситуации, позволяют сделать некоторые выводы, которые мы можем
резюмировать следующим образом:
1. Качества привязанности являются долговременными и позволяют, как
это показывают некоторые лонгитюдные исследования, предсказывать
чувство уверенности ребенка, в частности, при его поступлении в
школу.
2. Модальности привязанности могут быть предсказаны исходя из
качества и синхронности ранних интеракций между ребенком и его
матерью. В случаях интерактивного взаимодействия, наблюдаемых у
младенцев в возрасте одного, трех и девяти месяцев, синхронность
ранних интеракций позволяет предсказать, что в возрасте одного года
привязанность младенца к матери будет уверенного типа.
3. Типология ранних интеракций может быть изменена при
психологическом консультировании матери.
4. Эти замечания позволяют выделить определенное постоянство между
моделью привязанности матери и типом привязанности, который
формируется у ее ребенка; этот последний тип привязанности, без
сомнения, приобретет стабильный характер, и все может произойти так,
как будто можно предсказать, что он будет передан следующим
поколениям: таким образом, такое сложное понятие, как
трансгенерационная передача, оказывается сведено до этой простой
связующей нити передачи модели привязанности.
5. Работы Мэри Мэйн (1985) по этому вопросу свидетельствуют о
наиболее высоких ожиданиях. Внутренние рабочие модели привязанности
понимаются как психические репрезентации аспектов мира, других и
себя или взаимоотношений с другими, имеющие особую важность для
любого индивида.
Термин «внутренняя рабочая модель» был предложен в 1943 г. К. Крейком и принят Боулби, поскольку он давал динамический образ. Мэри Эйнсворт заметила, что у матерей, чувствительных к призывам новорожденного, дети меньше плакали; у этих детей устанавливалась лучшая коммуникация с матерью к концу первого года их жизни. Эта констатация была положена в основу ее экспериментальных исследований и ее классификации детей в момент встречи на три категории: В = доверчивые, А = недоверчивые, С = амбивалентные. Недавно Мэри Мэйн предложила добавить категорию Б = недоверчивыедезорганизованные.
Во всех работах этот автор настаивает на непрерывности между
категориями и последующим поведением детей и на соответствии этих
категорий степени чувствительности матери.
Таким образом, можно понять, что, по мнению авторов,
придерживающихся ее взглядов, можно говорить о трансгенерационной
передаче и особенно о том, что репрезентация матери для ее ребенка
практически эквивалентна этой рабочей модели привязанности.
Отсюда следующие предложения Мэри Мэйн и др. (1985), касающиеся
определения внутренних рабочих моделей привязанности:
1) рабочие модели являются психическими репрезентациями,
содержащими как когнитивные, так и аффективные элементы;
2) они формируются на основе обобщения репрезентаций событий;
3) они существуют вне сознания и наделены определенной
стабильностью;
4) события, исходя из которых формируются рабочие модели
привязанности, связаны с событиями, относящимися к привязанности;
эти последние представляются «результатом» «инстинктивного» принципа
стремления к близости;
5) грудные младенцы, пытающиеся обеспечить себе наибольшую близость
с человеком, ухаживающим за ними, и принимаемые им, формируют не
такие рабочие модели, как младенцы, получающие «заблокированные»
или «непредсказуемые» реакции;
6) эти рабочие модели могут сформироваться с самого начала жизни и
выражаются в типологии парадигмы Эйнсворт.
Мы не продолжаем эту практически дословную выдержку из работы Мэри
Мэйн с коллегами относительно определения внутренней рабочей
модели привязанности. Читателю становится ясно, что они подводят нас
к когнитивистским воззрениям, ясно изложенным в недавней работе И.
Брезертона.
Этот автор сравнивает качество коммуникаций между младенцем и
взрослыми и сопоставляет их функционирование взаимодействия с
внутренней рабочей моделью привязанности. Он отмечает также, что
возможные трудности в коммуникации в рамках отношений с объектом
привязанности распространяются на коммуникации с третьими лицами,
когда речь идет о привязанности. Здесь он упоминает исследования по
изложению сценариев привязанности на основе семейных фотографий или
сцен, сыгранных «клоунами» перед этими детьми в возрасте шести лет.
Дети из группы, ранее обозначенной как «доверчивая», дают более
оптимистичное изложение сценариев или описание фотографий,
представляющих расставание. Эти исследования, проведенные Джудит
Кассиди и Мэри Мэйн, сейчас готовятся к публикации. Они вдохновились
ситуацией Томаса, описанной супругами Робертсон. В 27 месяцев он был
разлучен с матерью на десять дней и содержался у них. Когда в
начале его пребывания ему показывали фотографию его матери, он
целовал ее и не хотел с ней расставаться. Немного времени спустя он
стал отворачиваться от нее и уходил, если ему пытались ее показать.
Мэйн и Голдвин работают в настоящее время над структурированным опросником для взрослых об их воспоминаниях об отношениях привязанности с родителями и их впечатлениях о влиянии этих отношений на их отношения привязанности с собственными детьми в настоящее время. Брезертон, сообщающий об этих исследованиях, упоминает и работы своих сотрудников, изучающих отношения привязанности родителей к их детям и зависимость этих отношений от связей, существовавших когда-то у них самих с их собственными родителями.
Передача моделей привязанности не всегда однородна: Брезертон
говорит здесь о последствиях «привидения в детской», по метафоре,
предложенной Седьмой Фрайберг (1975), т. е. о событиях, которые
препятствуют трансгенерационной передаче цепочки репрезентаций
рабочих моделей.
Мы вернемся к важности этой ссылки, которой автор воспользовался,
чтобы рассмотреть уместность использования теории (когнитивной)
репрезентаций в исследовании этих рабочих моделей. Вспомним здесь
вместе с Брезертоном, что этот подход противопоставляет рабочую
память долгосрочной памяти. Предлагалось использовать понятие схем
или сценариев, из которого вытекает их распределение, их индексация
в зависимости от других воспоминаний, их краткое изложение, что
приводит в конце концов к большому разнообразию структур опыта,
индексированных в пространственно-временном, причинном,
мотивационном и аффективном плане. Именно эти схемы, происходящие от
«мини-событий», организуются в длинные последовательности
воспоминаний, подобные сценарию.
Цепочки, составленные на основе «мини-событий» (например, ситуации
вскармливания вне зависимости от контекста), обобщают
последовательности событий в рамках декларативной или семантической
памяти, иерархия которой идет от самого конкретного к самому
абстрактному. Эти иерархии подвергаются новым вкладам. Таким образом,
одно и то же событие может быть соотнесено с разными шкалами анализа.
Эти модели памяти психических репрезентаций были предложены, чтобы
сделать возможной работу над упорядочиванием понимания
повседневного процесса мышления ребенка и взрослого. Они хорошо
применимы к разработке репрезентаций рабочих моделей привязанности в
том, что касается не только объекта привязанности, но и самого
субъекта. В описываемой здесь работе Брезертон анализирует три
репрезентационных схемы объекта привязанности:
1) наиболее близкая к опыту: «Когда я ударюсь, мама всегда приходит,
чтобы утешить меня»;
2) по более общей схеме: «Моя мать, как правило, рядом, когда я в
ней нуждаюсь»;
3) обобщая гамму опытов: «Моя мать — любящий человек».
Таким образом, репрезентация рабочих моделей привязанности строится на основе гаммы опытов, основанной на возникновении непредвиденных обстоятельств, приобретающих размеры события: это последнее организуется в рамках семантической или эпизодической памяти, но по схемам, число которых не бесконечно и которые объединяют репрезентации себя и фигур привязанности. Эти рабочие модели доверчивой и недоверчивой привязанности, кроме их исторического содержания, возможно, еще отличает иерархия репрезентаций, которую мы только что упоминали:
1) некоторые индивиды кажутся неспособными обобщать эпизоды своей
автобиографии и создавать абстрактные схемы;
2) другие могут разработать иерархию, которая только в некоторых
частях приводится в действие событием;
3) в самых благоприятных случаях стабильность репрезентаций
обеспечивается благодаря хорошей проницаемости иерархии событием.
Непоследовательные и противоречивые модели не дают доступа к
автобиографии; такая теория подтверждает существование вытеснения,
что предполагает возможную модификацию рабочих моделей привязанности.
Кстати, довольно любопытно, что Брезертон в заключении своей работы
высказывается в этой связи в пользу «держащей окружающей среды» и
становится адептом корректирующего эмоционального опыта. Несмотря на
эти аспекты относительного пересечения между когнитивистской теорией
привязанности и психоаналитическими подходами к этой проблеме,
следует признать, что теория рабочей модели отвергает правомерность
психоаналитических положений о психических репрезентациях.
Репрезентация рабочих моделей привязанности и репрезентация объектов
Рассмотрим сначала контекст, в котором используется понятие
репрезентации (представления),— это философский контекст. «Vorstellung»
— немецкое слово, обозначающее то, что представляют себе, «то, что
составляет конкретное содержание мыслительного акта и, в частности,
воспроизведение более раннего восприятия» (по Фройду; цитата,
приведенная Лапланшем и Понталисом).
С этой точки зрения использование этого понятия когнитивистами,
которые, без сомнения, стали бы говорить о мыслительном акте, не
сильно отличается от того, которое предлагает Фройд. Впрочем, М.
Поллак-Корнийо, изучив переводы Фройда с французского языка на
немецкий, чтобы извлечь из этого сведения, полезные для перевода на
французский язык произведений Фройда, считает, что слово «Vorstellung
скорее следует переводить как «образ» или просто «мысль».
Вместе с тем не следует забывать, что французское слово «представление»
(«репрезентация») напоминает о спектакле, т. е. о мечте, имеющей
определенное развитие. Кстати, отличая мнестический след от
представления, не готовился ли Фройд предложить еще одно
противопоставление, отличающее представление (репрезентацию) вещи от
репрезентации слова. Первая принадлежит к области бессознательного и
близка к галлюцинации и сновидению — мы еще вернемся к этому; но
вследствие этого репрезентация вещи исходит от увиденного.
Представление, выраженное в слове, заставляет вновь пережить
сознательное восприятие, которое оно характеризует своим
наименованием; значит, репрезентация слова исходит от услышанного.
Такое определение области представления исключает регистр эмоции и
аффекта, с чем были бы согласны когнитивисты.
Но, связывая участь репрезентаций с экономическим регистром импульсивной жизни, психоаналитическая теория делает репрезентацию представителем импульса, «его уполномоченным»: вот почему следует напомнить здесь психоаналитическую теорию репрезентации объекта, т. е. объекта инвестиции импульсов. Фройд писал в 1925 г.: «Грудь (т. е. ее репрезентация) рождается от отсутствия груди». Он хотел сказать, что в тот момент, когда ослабевает единство новорожденного с материнской заботой, младенец способен реактивировать с помощью своей аутоэротической деятельности мнестические следы, запечатленные во время переживания удовлетворения потребностей. Так рождается галлюцинация орального удовольствия и репрезентация объекта удовлетворения, грудь, созданная желанием младенца, которое опирается на опыт; репрезентация психически представляет объект импульса.
Эта теория репрезентации объекта желания имеет два последствия, которые мы бы хотели кратко напомнить:
1) союз ребенка и материнской заботы предполагает переживания
орального удовлетворения, оставляющие мнестические следы;
2) репрезентация удовлетворения есть не что иное, как
галлюцинаторное или сновидческое представление объекта
удовлетворения.
Другими словами, именно мини-сепарация с объектом вызывает его
репрезентацию; эта последняя репрезентация уже является
мини-фантазией, которая выразится в сценарии, фантазией скорее
орального характера, которая уже впоследствии будет насыщена
превратностями истории этого субъекта,— они придадут смысл этим
первым галлюцинированным опытам. Благодаря этой теоретической
справке можно заметить тесные связи между репрезентациями и
фантазийной жизнью, строящейся исходя из инвестирования объектов
импульсами и аффективными фиксациями.
Предлагая распространить на человеческого ребенка программу
обобщенной привязанности, Боулби нанес серьезный удар по теории
рождения репрезентации объекта на основе его импульсного
инвестирования. Отныне требовалось описывать связь между младенцем и
его воспитателями, исходя из интерактивной модели, основанной на
программе привязанности и ее внутреннем динамизме, который Дж.
Боулби представил как рабочую модель, понимающуюся на основе теории
развития Пиаже и кибернетических теорий. Выше мы уже отметили, что
современные экспериментаторы предпочли изучать репрезентации этой
внутренней модели привязанности на основе когнитивистских теорий
декларативной и процедурной памяти.
Два пути открываются перед психоаналитиком:
1) он может, подобно Боулби, заявлять о своей верности психоанализу,
напоминая о том, что он продолжает придавать большое значение
детскому прошлому и истории в организации психической жизни
взрослого;
2) или же, исходя из интеракции между младенцем и его родителями, он
изучит ее последствия для организации психических
представлений-репрезентаций и фантазий в межличностной жизни и в
период освоения межличностных связей. Именно этот путь мы выбрали и
намереваемся пройти его здесь.
Самость и процесс субъективации
Психоаналитическая теория имеет отношение в первую очередь к
функционированию психических инстанций и не описывает субъекта, в
котором они содержатся. Однако в терминах инвестирования либидо
объект импульсов может передать часть объектного либидо Я, которое
при этом инвестируется вторичным нарциссизмом; тогда можно
противопоставить Я и самость.
Но описание наблюдателями привязанности маленького
ребенка и интеракций, характеризующих эту привязанность, приводит к
исследованиям развития самости. Это как психоаналитические, так и
нейробиологические работы.
Последователи Фройда, занимавшиеся детским психоанализом и ранним
развитием функционирования психики, работали над этой проблемой:
кляйнианцы предложили описание депрессивной фазы, которое было
развито Д. Винникоттом (1949). Он рассматривает «селф» (самость) как
аспект этой депрессивной позиции, при которой наевшийся, но
ненавидящий младенец замечает, что его мать и он сам продолжают
существовать несмотря ни на что. Так формируется эта самость,
которую, следовательно, можно определить как способность чувствовать
свою непрерывную психическую жизнь.
В неврологических науках нельзя избежать упоминания о формировании самости. М. Жаннро (1991) определяет процесс субъективации, исходя из принципа самоорганизации нервной системы: «Устранение некоторых синапсов и стабилизация других приводит, таким образом, к моделированию мозга в зависимости от опыта животного или в зависимости от воздействий со стороны окружающей среды». Самоорганизация самости изображается по избирательной модели: «Представляется, что существует прямая связь между нервной деятельностью и тем, как мозг организуется в ходе дозревания».
Возможно ли пойти дальше и описать процесс субъективации на основах установки синаптических связей как непрерывный процесс взаимодействия между нервно-мозговым функционированием и рождением субъекта в его мире? «Таким образом, можно, наконец, постулировать, что индивид в ходе своей собственной деятельности формирует самого себя (биологически и психологически) на основе материалов, полученных при рождении. Эта гипотеза самоорганизации (т. е. самоселекции) может служить для иного рассмотрения связей между биологией и психологией. Можно предположить, что на уровне синаптического функционирования нервная деятельность усиливает эффективность передачи. На уровне поведения активная двигательная деятельность делает возможным обучение, укрепляет психомоторную координацию и стабилизирует перцептивные образы. На когнитивном и психическом уровне задавание вопросов с помощью речи, любопытствующее исследование окружающей среды строит межличностные отношения». А. Бургиньон (1989) выражает аналогичные взгляды: «Живая материя эволюционирует в направлении возрастающей сложности вследствие своих способностей к самоорганизации, под двойным давлением законов, управляющих внутренней соразмерностью организмов и их взаимодействий с окружающей средой. По мере усложнения организации внутренние принуждения начинают преобладать над внешними воздействиями».
Нет необходимости далее излагать положения, описывающие континуум
между синаптическими организациями, функционирование самости и
способы ее вступления в межличностные отношения. Во всяком случае,
именно на этой гипотезе были основаны работы психоаналитиков
развития.
Теория привязанности, самость и вступление в межличностные отношения
Известно, что многочисленные исследования новорожденного показывают
наличие весьма ранних психических репрезентаций, относящихся к
существованию ухода, связанного с кормлением. Другими словами, как
это доказал Даниель Штерн (1985), младенец пользуется своей
амодальной сенсорностью и своей эмоциональной жизнью, чтобы
построить одновременно ядро самости (в смысле постоянного ощущения
жизни) и основы межличностной жизни. Этот автор в то же время
напоминает о том, что привязанность является основой тех
повторяющихся и гармоничных интеракций, благодаря которым на основе
случайных обстоятельств в жизни младенца появляются события,
составляющие эпигенетическую основу «сценариев», призванных
составить в будущем историю этого младенца, которая впоследствии
реактивируется в соответствии
с воззрениями «дарвинской неврологии» Эдельманна. Д. Штерн также
показал, что самость вступает в межличностные отношения, когда
интерактивный опыт грудного младенца в начале второго полугодия
первого года жизни позволяет ему не только получить знание о
постоянстве объекта, но и организовать метатеорию его психического
функционирования.
Другие «психоаналитики развития» пользуются теорией привязанности, чтобы говорить об опыте «мы», который они противопоставляют опыту зарождающегося Я: к ним принадлежит Роберт Эмде (1989). Но эти психоаналитики описывают в своих работах исследования в лаборатории, с «лабораторными детьми». Мы считаем, «что настоящий ребенок строит свои психические репрезентации в том числе исходя из конструкций своей матери: они являются результатом ее желания беременности и ее предсознательных мечтаний, которые, продолжая родословное древо семьи, передают ребенку межпоколенческий мандат судьбы». Они свидетельствуют также о ее желании материнства, восходящем к детству, и о ее бессознательных эдипальных конфликтах: ее фантазия состояла в том, чтобы, подобно своей матери, дать ребенка своему отцу; таким образом, дедушка младенца с материнской стороны является также и отцом — родителем — новорожденного. Этот фантазийный ребенок помогает матери вжиться в ее материнскую роль, а родителям — в родительскую роль.
Фантазийный ребенок оправдал много метафор; здесь без сомнения следует припомнить две из них:
1. Винникотт в своей статье под названием «Роль зеркала матери и
семьи в развитии ребенка» писал, что ребенок, смотрящий на свою
мать, видит две вещи: ее зрачки и мать, смотрящую на него. Его мать,
следовательно, видит, что ее ребенок смотрит, как она смотрит на
него. Так закладывается бесконечная игра зеркального общения; ее
следует рассматривать как основу репрезентации самости и
материнства: эта метафора предполагает доступ к межличностным
отношениям.
2. Бион предложил другую метафору — метафору способности матери к
мечтаниям. Этот автор напоминает, что мать может с помощью своей
фантазийной деятельности «обезвредить» идентификационные проекции
своего ребенка, которые он адресует своим материнским
репрезентациям.
Итак, мы наконец описали трех детей:
• лабораторного ребенка, который строит свои
репрезентации-представления в рамках интеракций; он делает это
активно, пользуясь своей программой развития и, в частности, рабочей
моделью привязанности. Это младенец, превратности развития которого
можно оценить, в частности, с помощью парадигматического аппарата
М. Эйнсворт, что дает возможность вести интересные исследования.
Это ребенок, которого понимают с помощью эмпатии; эмпатия может
стать конструктивной благодаря использованию творческих метафор и
таким образом сблизить:
• настоящего ребенка репрезентации, т. е. такого, каким он
представляет свою самость, и такого, каким он представляет себе мир;
• и настоящего ребенка конструкции, такого, каким он себя рисует
или рассказывает в последействии эпизодов своего сценария, который
впервые был написан при обстоятельствах, ставших событиями в
развитии интерактивного общения, повторяющегося во времени и
лишенного монотонности.
В личном сообщении Моника Пиноль-Дурьез напоминает, что начиная с
1960 г., когда я писал в своей статье о рождении объектной связи,
что «младенец инвестирует свою мать еще до того, как он воспринимает
ее», я имел в виду, что «если инвестирование Я закладывает основу
осознания объекта, представление о своих собственных границах,
телесное Я строится также исходя из нарциссических инвестиций,
близких к самости в понимании "психоаналитиков развития"». Чувство
Эго «необходимо, чтобы возникло чувство реальности объекта».
Этот ребенок рассказывает о себе, и при анализе взрослых с этой
точки зрения его можно обозначить как опыт повествования или
историзированный роман. Переход от первоначального сценария к его
изложению стал темой работ, которые возвращают психоаналитика,
исследующего генезис межличностных отношений в лаборатории, к его
кушетке — отсюда он может свидетельствовать о рождении процесса
субъективации и явлениях десубъективации.
О процессе субъективации.
В своем сообщении под названием «О субъекте» Реймонд Кан
осуществляет полный анализ этой темы у Фройда и предлагает нашему
вниманию очень подробный свод различных смыслов, которые
психоаналитики придавали понятию самости.
Он также отдает должное Кохуту, на которого «психоаналитики развития»
слишком часто забывают ссылаться: в своем докладе Р. Кан отмечал,
что «...в том, что происходит при аффективном архаическом переносе,
репрезентации играют лишь ограниченную роль или вовсе никакой.
Отсюда необходимость такого инструмента коммуникации и понимания,
как эмпатия».
Согласно этой концепции, субъект является вначале — и на некоторое
время, по меньшей мере, до сепарации, осуществляемой третьим,
отцовским персонажем эдипальной ситуации — объектом объекта, т. е. —
как мы знаем — объектом громадного нарциссического инвестирования.
Таким образом, репрезентации самости сразу же идеализируются.
Достаточна ли эта теория, чтобы понять зарождение субъекта? Есть ли
необходимость долго останавливаться на предположениях Хайдеггера,
вновь прочтенных Кожевом и продолженных Лаканом? В этом мы можем
усомниться после прочтения книги М. Борш-Якобсен (1990). Приведем
следующие несколько строк из этой работы: «Мы думали, что поняли,
что объект А является высшим идентификационным объектом, тем, с чем
мы идентифицируемся, находясь на грани небытия, чтобы поддержать
себя немного в нашем желании. Но мы еще ошибались. Нам еще
предстояло научиться — не быть больше этим объектом, оторваться от
него, утратить его окончательно». Субъект, чувствующий свое
существование и функционирование на основе самоорганизации своей
синаптической сети, как мы видели, не смог бы, без сомнения,
самостоятельно определить значительность нарциссического
инвестирования самости. Оно требует, однако, чтобы каждый
чувствовал свою психическую жизнь непрерывно: это подтверждает
интересное исследование случаев «десубъективации». Клиническая
область этого исследования, в основе которого лежат «нарциссические
повреждения», описана в сообщении Р. Кана.
Эта значительная работа подтверждает важность «ребенка самости». Мы предлагаем обозначать так ребенка, который зарождается, видимо, собственной способностью к самозарождению его представлений-репрезентаций себя и мира. Но это кажущееся самозарождение требует на самом деле генетической программы, продолжающей свое действие после рождения, и дает возможность рождения синаптической самости, обладающей тенденцией к самоорганизации уже по причине деятельности нервной системы, но, как мы убедились, и благодаря интеракциям ребенка с окружающей средой.
Результатом этого является ребенок привязанности: он — носитель
переданной системы, моделирующей типы репрезентаций себя, которые
организуются через повторение интеракций и постепенно начинают
опираться на сценарии, изменяющие их способы выражения.
Но самость человеческого ребенка строится и через огромное
нарциссическое вложение, которое ему посвящает его мать, делающая
его при этом хранителем своей предсознательной и бессознательной
сексуальности: это ее воображаемый и фантазийный ребенок.
Здесь мы приближаемся к теории всеобъемлющего соблазнения, недавно
предложенной Лапланшем. «Загадочные значимые» являются орудиями
соблазнения матери, которая предоставляет ребенку необходимый уход
в соответствии со своей культурой, пользуясь своей собственной
бессознательной инфантильной сексуальностью. Мы узнаем из этой
работы, что мы постоянно старались учитывать также и способности
ребенка к организации проторепрезентаций материнского ухода, что
приводит нас к описанию фантазийных интеракций.
Надо ли идти дальше, представляя себе, что следует найти непрерывную связь между ребенком привязанности, близким к экспериментальной психологии, и ребенком опосредованного временем повествования: эта попытка требует работы на стыке различных областей познания. Эти связи остаются гипотетическими, но становится необходимым принимать во внимание работы, ведущиеся в областях, противоположных нашей обычной деятельности; следовательно, становится неизбежным время от времени перестраивать некоторые наши теоретические гипотезы.
Ребенок привязанности и ребенок психоанализа.
Мы попытались выяснить, какие выводы можно сделать из работ Боулби
по развитию. В заключение этой работы мы можем сделать два таких
вывода.
1. Наиболее известный аспект касается обращения к этологии животных
и критики Фройдовской теории рождения объекта. Без сомнения, сегодня
уже невозможно сохранять верность Фройдовской метапсихологии в том,
что касается рождения объекта.
Менее известный аспект этих работ касается внутренней модели
привязанности, которую последователи Боулби, как и он сам, описали,
исходя из когнитивных моделей, которые легли в основу понятия
трансгенерационной передачи.
Мы постарались показать, что психоаналитические работы не должны
обходить вниманием экспериментальные исследования зарождения самости,
но в клинической работе нельзя закрывать глаза и на другие данные,
относящиеся к психоаналитическому опыту, особенно во время
консультаций ребенка младшего возраста с его родителями. На этих
консультациях выясняется место этого ребенка в древе жизни семьи.
Так вырисовывается филиация и связанные с ней фантазии, посредством
которых она придает смысл обстоятельствам, становящимся в
последействии событиями и поддерживающим излагаемый сценарий,
который ложится в основу нашей клинической и терапевтической работы.
Эта работа над филиацией фантазий дает возможность подкрепить
принадлежность ребенка к его культуре, к культуре его родителей.
Вместо эпилога
Тимоти девять лет: он сын молодой женщины, которая презирает мужчин, особенно своего отца, который умер, когда ей было два года. Она была младшей из девяти детей. Она потеряла своего единственного брата, погибшего в дорожном происшествии при катании на мотоцикле. Ее муж потерял своего отца, который пропал и больше никогда с ним не виделся. Он занимается «смехотворными бюрократическими делами», а не своим сыном, который ничего не делает в школе и утомляет своих учителей так же, как и свою мать, которая даже бросила работу (она работала вместе с мужем), чтобы заниматься сыном.
В конце этой первой консультации Тимоти проявляет несомненную
пассивность. Это видно и в явной аллегории образов: он рисует кота,
который хочет поймать мышь; но мышь бежит быстро, и кот предпочитает
лечь спать.
Вторая консультация: все идет плохо, надо устроить Тимоти в интернат!
Когда мальчик остается наедине со мной, он рисует свою классную
комнату, в которой четыре ряда по восемь парт и тридцать два
ученика; столы нарисованы тщательно и ровно. Затем стол учителя и
его собственное место; это место между партами учеников и
учительским столом. Таким образом, его соученики находятся позади
него. Они смотрят на него, а он их не видит. А когда учитель
ненадолго уходит, он поворачивается к своим товарищам и «запускает»
в них мячом; потом ученик, который в отсутствие учителя отвечает за
тишину в классе, докладывает, что Тимоти устраивает беспорядок.
Другими словами, он видит своих товарищей, которые могут смотреть
на него, только в отсутствие учителя.
Его отец сразу замечает такое расположение фигур на рисунке сына,
когда я приглашаю его в кабинет вместе с супругой. Он смотрит на
рисунок своего сына, который сын не захотел спрятать. На вопросы
своего отца он отвечает: «Я тебе сделаю рисунок на "Папин праздник"».
Сначала он рисует вазу, на стенке которой он рисует цветок с
лепестками: «Лютик... по нему можно узнать, любит ли человек масло...
Нет, ромашка, с нее обрывают лепестки, чтобы узнать, любит, не любит
и т. д...»
Мать вмешивается при этой оценке любви, испытываемой к отцу, чтобы
подчеркнуть недостатки воспитания: «Утром Тимоти приходит к нам в
постель и просит отца одолжить ему жену». Мать говорит при этом сыну:
«Даже если я и буду спать с другим мужчиной, то не с тобой!» Тимоти
продолжает рисовать и делает странное замечание: «Чтобы было видно
цветы, нарисованные на стенках вазы, надо их осветить»,— и рисует на
краю вазы «отражение окна». Отец замечает затем, что, если Тимоти
посмотрит на него в зеркало, он увидит отражение своего отца и свое
собственное отражение. Но при этом его ослепит солнце, и он сможет
разве что узнать себя в своем отражении в стекле.
Итак:
• нет трансгенерационной передачи отцовского идеала Я;
• отец обесценен матерью;
• нарциссическое вложение сына совершенно недостаточно; ведь он —
еще один мальчишка в этой семье, неудачник по определению (!);
• очень неопределенное основание самости, поскольку отец объявляет,
что его отражение не может ничего построить;
эта ситуация воспроизведена в рисунке школьного класса: когда учитель уходит, Тимоти не видит, что его видят, и он вынужден поднимать шум.
В общем сильный стыд за свое Я, которое не может пробиться к
существованию.
Раздел "Статьи"
Жак Лакан "Стадия зеркала, как образующая функцию Я"
Томас Огден. Что верно и чья это была идея?
Рональд Бриттон. Интуиция психоаналитика: выборочный факт или сверхценная идея?