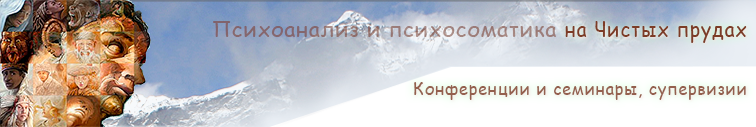Томас Огден. Что верно и чья это была идея?
В этой работе автор исследует идею, что психоанализ, по сути, является усилием со стороны пациента и аналитика выразить словами то, что верно с точки зрения эмоционального опыта, в форме, доступной для аналитической пары, с целью психологического обмена. Основанное на работе Биона, то, что верно с точки зрения эмоционального опыта, рассматривается как независимое от формулировки, данной аналитиком. В этом смысле мы, как психоаналитики, не являемся изобретателями эмоциональной правды, а скорее участвующие наблюдатели и регистраторы. И все же в самом акте мышления и придания словесно символической ‘формы’ тому, что интуитивно считаем верным в отношении эмоционального опыта, мы искажаем правду. Это понимание того, что верно, подчеркивает аналитическую концепцию терапевтического эффекта интерпретации: интерпретируя, аналитик словесно символизирует то, что он считает верным в отношении бессознательного опыта пациента, и, делая это, искажает правду и вносит вклад в создание потенциально нового опыта, с помощью которого аналитическая пара может совершать психологическую работу. Эти идеи подробно проиллюстрированы при обсуждении аналитической сессии. Аналитик извлекает пользу из опыта собственных грез – в отношении которых как оба, так и никто из аналитической пары, могут претендовать на авторство - в попытке достичь временного осознания того, что верно в отношении бессознательного эмоционального опыта пациента на основе нескольких связей, образованных на сессии.
Психоаналитическая практика, по моему мнению, является в основе своей усилием со стороны аналитика и анализанда сказать нечто, что воспринимается обоими как правда в отношении эмоционального опыта в данный момент аналитической сессии, и может быть использовано аналитической парой для психологической работы. В данной статье я лелею ряд идей, связанных с вопросом, что мы, как аналитики, имеем в виду, когда говорим, что что-то верно, и что должен делать в процессе мышления один человек с таковым другого в отношении того, что верно. Я не склонен к иллюзии, что делаю нечто большее, чем задаю вопросы и предлагаю направления, куда они могут привести. Мое намерение состоит в том, чтобы начать исследовать парадокс, что эмоциональная правда человека одновременно и универсальна, и исключительно индивидуальна, а также находится вне времени и одновременно высоко специфична для определенного момента жизни. Как станет очевидно, различные поднимаемые мною вопросы переплетаются друг с другом, в результате чего дискуссия несколько раз возвращается назад, когда я размышляю над представленными ранее проблемами с других позиций.
Многие идеи в данной работе являются откликом на концепцию Биона. Я пытаюсь локализовать источник представленных мною идей, но мне сложно с уверенностью сказать, где кончаются идеи Биона и начинаются мои собственные. Т.к. проблема ‘Чья это идея?’ является сутью данного изложения, представляется удобным воспринимать данный материал в виде письменного изложения и чтения.
Вопрос, достигает ли аналитический обмен словесного выражения того, что является правдой, - или, по крайней мере, ‘относительной правды’ (Бион, 1982, с.8) – не заумный теоретический предмет, который лучше оставить философам. Как аналитики, мы почти каждый раз на аналитической сессии спрашиваем себя и приблизительно отвечаем (или, более точно, откликаемся) на вопрос. Я представляю подробный отчет о первичном интервью, где я иллюстрирую некоторые подходы к вопросу о том, что эмоционально верно в определенные переходные моменты на сессии, и к вопросу о том, кто автор идеи, что это ощущается как правда.
Чья это была идея?
Задавая вопрос ‘Чья это была идея?’, я исследую то, что это означает для индивида, или что ему приписывалось, оригинальное авторство идеи в отношении того, что верно для эмоционального человеческого опыта, и как подобные идеи служат в качестве влияния на процесс мышления других. Например, читая Фройда и Кляйн, как мы определяем, кому принадлежит оригинальное авторство концепции бессознательного мира внутренних объектов. В «Горе и меланхолии» (1917) Фройд ввел то, что я рассматриваю как важные элементы того, что позднее был определено Фэйрберном (1952) как ‘теория объектных отношений’ (см. Огден, 2002, к дискуссии о происхождении теории объектных отношений в ‘Горе и меланхолии’). Однако многие элементы теории Фройда об отношениях с внутренними объектами, содержащиеся в работе ‘Горе и меланхолия’, присутствуют только в зачаточном состоянии и часто, по всей вероятности, без осознания Фройдом теоретического применения его идей. Рассматривая вопрос о том, как идеи одного человека относительно того, что верно, влияют на идеи других людей, мы банально принимаем диахроническую (хронологическую, последовательную) перспективу, при которой размышления одного человека (например, Фройда) рассматриваются как влияющее на мышление современников и тех, кто пришел позже (например, Кляйн, Фэйрберн, Гантрип и Бион). Несмотря на кажущиеся самоочевидные выгоды подобного подхода, я полагаю, что имеет смысл поставить под сомнение эту концепцию авторства и влияния. Читая статью ‘Горе и меланхолия’, если внимательно вслушиваться, то, по моему мнению, можно услышать голос Кляйн при обсуждении Фройдом ‘внутреннего мира’ меланхолика. Фройд постулирует, что структура бессознательного внутреннего мира меланхолика определяется защитным двойным расщеплением Эго, ведущим к созданию стабильных бессознательных внутренних объектных взаимоотношений между ‘критикующей инстанцией’ (позднее превращающейся в Супер-Эго) и частью Эго, идентифицированной с потерянным или покинутым объектом:
Расстройство меланхолика позволяет … [взглянуть] на структуру человеческого Эго. Мы видим, как у [меланхолика] одна часть Эго противостоит другой, критически судит ее, и, как это было, воспринимает ее как свой объект … То, с чем мы здесь знакомимся, - инстанция, обычно именуемая ‘сознанием’ (1917, стр. 247).
В приведенных словах читатель может услышать голос Кляйн (ее концепцию внутренних объектов и внутренних объектных отношений) в этой и многих других частях статьи ‘Горе и меланхолия’, я предполагаю, что влияние не всегда осуществляется в хронологическом движении ‘вперед’. Другими словами, влияние определяется не только ранним вкладом в более поздний; более поздние вклады влияют на то, как мы читаем более ранние. Требуется, чтобы Кляйн понимала Фройда, также как требуется, чтобы Фройд понимал Кляйн. Каждый фрагмент аналитического текста требует читателя, который помогает автору в сообщении того, что верно, чего-то, что автор знал, но не знал, что знает. Делая это, читатель становится молчаливым соавтором текста.
Когда как такая форма взаимного влияния раннего и позднего вклада (опосредованная читателем), несомненно, важна, я хотел бы немного сосредоточиться на влиянии, которое идеи оказывают друг на друга – часто охватывая большой промежуток времени, хронологически как вперед, так и назад. Возвращаясь к влиянию идей Кляйн на Фройда и наоборот, я предполагаю, что идеи Кляйн, сформулированные между 1935 и 1940 по вопросу отношений с внутренними объектами, могли быть доступны Фройду в 1915 [Хотя работа ‘Горе и меланхолия’ была написана в 1915, Фройд по загадочным причинам не публиковал ее до 1917 г.] и были использованы им (невольно) в работе ‘Горе и меланхолия’. Хотя он и использовал идеи, он не мог обдумать их. Сказать такое означает лелеять возможность, что идеи, которые, по нашему мнению, принадлежат Кляйн и Фройду, - творение обоих и ничьи. Идеи, которые каждый высказал, являются формулировкой человеческого опыта, структура, набором правд, которые аналитики и другие пытаются описать, но в действительности не создают.
Я полагаю, Бион имел аналогичные взгляды по вопросу временного двунаправленного влияния идей одной на другую и выразил ‘свои’ формулировки гораздо более изящно, чем я:
Вы можете относиться к этим [безутешным крикам ребенка на руках у матери сразу после рождения] как вам угодно, скажем как к памятным следам, но те же памятные следы можно рассматривать как тень, которую будущее отбрасывает заранее [предвидение будущего в настоящем как противопоставление воспоминаниям прошлого] … Цезура, которая заставляет нас верить [Бион цитирует здесь предложение Фройда – дословно - кажется, цезура рождения говорит сама за себя в попытке убедить нас в своей власти над нами]; будущее, которое заставляет нас верить; прошлое, которое заставляет нас верить, - это зависит от того, в каком направлении вы путешествуете, и что видите (1976, стр. 237).
Будущее для Биона – такая же часть настоящего, как и прошлое. Тень будущего отбрасывается вперед из настоящего и отбрасывается назад из будущего на настоящее – ‘это зависит от того, в каком направлении вы путешествуете’ (огромное количеств вопросов, касающихся отношения автора к ‘своим’ идеям, а также взаимоотношений прошлых, настоящих и будущих идей должны быть оставлены в нетронутом виде до тех пор, пока мы не начнем дискуссию о том, что мы, как аналитики, подразумеваем, когда говорим, что что-то верно.)
Что верно?
Последующая дискуссия о временном двунаправленном влиянии (Чья это была идея?) неотделима от вопроса ‘Что верно?’ В качестве предпосылки к ней я предлагаю идею, что существует нечто верное для человеческого эмоционального опыта, который аналитик может точно почувствовать и донести до пациента такими словами, которые пациент может усвоить. Из допущения, что существует нечто потенциально верное (или неверное) в отношении психоаналитических формулировок вербальных интерпретаций человеческого эмоционального опыта, следует, что эмоциональный опыт имеет реальность, правду [Абсолютная (непознаваемая) истина, которую Бион (1971) определил как О, приблизительно соответствует ‘вещи в себе’ Канта, ‘идеальным формам’ Платона и ‘реестр Реального’ Лакана. Временами Бион называет это попросту ‘опыт переживаний’ (1971, стр. 4). В данной работе я обращаюсь почти исключительно к по-человечески понятной, по-человечески значимой, относительной правде, которая касается человеческих переживаний (в противовес Абсолютной истине). ], что он не зависит от формулировок и интерпретаций, которые пациент или аналитик может навязать (Бион, 1971).
Мысль, что правда не зависит от исследователя, лежит в основе научного метода и не подвергается сомнению в естественных науках. В молекулярной биологии, например, кажется очевидным, что Уотсон и Крик не создавали двойную спиральную структуру ДНК. Структура существовала до того, как они ее открыли: ДНК имеет структуру двойной спирали независимо от того, они или любой другой ученый распознал ее (и получил доказательства для формулирования теории).
Двойная спираль – структура, которую можно ‘увидеть’ – хотя и посредством неодушевленных объектов (приборов), которые создают у нас иллюзию, что человеческий глаз способен увидеть саму структуру. В психоанализе у нас нет приборов, позволяющих (хотя бы с помощью иллюзии) увидеть психологические структуры; у нас есть доступ к психологическим ‘структурам’, только если они переживаются в области бессознательных, предсознательных и сознательных сновидений, мыслей, чувств и поведения. Мы придаем форму этим структурам с помощью метафор, которые создаем (т.е. археологической метафоры топографической модели Фройда или метафоры, представляющей структурную модель Фройда, которая включает воображаемый комитет, состоящий из Ид, Эго и Супер-Эго, пытающихся взаимодействовать с внешней и внутренней реальностью). И хотя существует нечто реальное (неметафорическое), с чем соизмеряются психоаналитические формулировки, – находятся ли они в королевстве метапсихологии, клинической теории или предлагаемых пациенту интерпретаций – и что ‘нечто’ является нашим ощущением (нашей ‘интуицией’ (Бион, 1992, стр. 315)) того, что верно для данного опыта. В конце существует эмоциональный отклик - что ощущается верным – что имеет последнее слово в психоанализе: мышление обрамляет вопросы, на которые необходимо ответить посредством чувств.
Чувства аналитика в отношении того, что верно, являются чистыми гипотезами, однако до тех пор, пока не будут соотнесены с чем-то внешним по отношению к психической реальности аналитика. Отклик пациента на интерпретацию – и соответствующий отклик аналитика на отклик пациента – играет роль критики в подтверждении или прекращении ощущения аналитика того, что верно. Эта методология представляет попытку подвести основание под психоаналитическую правду в мире за пределами психики аналитика. Для этого требуется, по крайней мере, два думающих человека (Бион, 1963). ‘Размышления’ одного человека о самом себе могут быть бесконечно солипсическими или даже галлюцинаторными, и мыслителю одиночке будет невозможно определить так это или не так.
Тем не менее, несмотря на усилия аналитика подвести почву под то, что он воспринимает как верное в дискурсе с другими, человеческие существа сильно предрасположены к тому, чтобы воспринимать свои убеждения, как будто они являются правдой. Так за кем остается последнее слово при ответе на вопрос, что верно? Как различные психоаналитические ‘школы’ можно отличить от культов, каждый из которых уверен, что знает, что верно? Я не пытаюсь рассматривать прямо вопрос, как мы развиваем некоторую степень уверенности в отношении того, что верно. Вместо этого, я отвечу косвенно, предложив некоторые мысли по поводу того, что мы, как аналитики, подразумеваем, когда говорим, что что-то верно (или содержит некоторую правду). Если у нас есть представление, что мы подразумеваем, когда говорим, что что-то верно, у нас может возникнуть некоторое ощущение того, как мы отличаем, что верно, от того, что нет.
Для начала размышлений о том, что мы подразумеваем, когда говорим, что мысль верна, давайте обратимся к идее, что существуют всеобщие истины (включая эмоциональную жизнь человека), которые существуют изначально и не зависят от мышления какого-либо мыслителя. С этой точки зрения, мыслители не являются изобретателями, они – участвующие наблюдатели и писари.
Здесь мне приходит в голову комментарий, сделанный Борхесом во вступлении к сборнику своих стихов:
Если на последующих страницах есть та или иная удачная строфа, да простит меня читатель за дерзость написать это раньше него. Мы все едины; наши непоследовательные умы очень похожи, и обстоятельства так влияют на нас, что только случай сделал Вас читателем, а меня – писателем – неуверенным, пылким писателем – моих строф [которые случайно ухватили нечто верное в отношении опыта человеческих переживаний] (1923, стр. 269).
Борхес и Бион сходятся во мнениях: правду никто не изобрел. Для Биона (1971) только создание лжи требует мыслителя. То, что верно, уже существует (т.е. двойная спираль ДНК) и не требует мыслителя для своего создания. В терминах Биона психоанализ до Фройда был ‘мыслью без мыслителя’ (стр. 104), т.е. набор идей, которые верны, ‘ожидающих’ мыслителя, чтобы подумать о них. Психоаналитические концепции того, что верно в отношении эмоционального опыта человека, были изобретены Фройдом не более, чем гелиоцентрическая модель солнечной системы была изобретена Коперником.
Тем не менее, с другой точки зрения, размышление над идеями, выражающими то, что верно, нарушает сам объект размышлений. Гейзенберг привлек к этому наше внимание в царстве квантовой физики. Это также верно в психоанализе и в искусстве, что, интерпретируя или делая скульптуру, или сочиняя музыку, мы не просто открываем то, что все время присутствовало в латентной [скрытой] форме; скорее придавая правде форму человеческих ощущений, мы изменяем эту правду.
Формы по природе своей не имеют названий; они даже не имеют формы до тех пор, пока мы не припишем им визуальные категории форм, которые в состоянии вообразить. Вещи по природе своей попросту то, что они есть до того, как мы найдем им место в нашей системе символов. Так несмотря на то (или в дополнение к), что было сказано ранее о независимости структуры двойной спирали ДНК от тех, кто это сформулировал, Уотсон и Крик все же нарушили структуру ДНК – они назвали ее структуру и в этом смысле придали ей форму. Правда названия формы была порождением способности придавать ощущаемую человеком и понятную человеку организацию тому, чему ранее недоставало связности. Однако факт образования связности не является достаточным основанием для установления правды идеи. Религиозные системы порождают связность. Правда идеи, как в естественных науках, так и в психоанализе, зиждется на полученном доказательстве этой идеи. Доказательство состоит из ряда наблюдений (включая эмоциональные отклики участвующих наблюдателей, таких как психоаналитики, работающие в аналитическом сеттинге) того, как вещи работают (или не работают), когда мы применяем идею/гипотезу к реальному житейскому или наблюдаемому опыту переживаний.
Вкратце, нам требуется то, что Бион называет ‘бинокулярным зрением’ (1962, стр. 86) – восприятие одновременно с разных позиций - чтобы озвучить то, что мы подразумеваем под правдой в психоаналитических условиях. То, что верно, является открытием в противовес созданию, и т.к., делая это открытие, мы изменяем то, что нашли, в этом смысле мы создаем что-то новое. Не меньше, чем психоаналитическая концепция терапевтического воздействия интерпретации бессознательного зависит от такого отношения к правде и трансформациям, возникшим, когда мы дали ей название. Делая интерпретацию (которая содержит некоторую правду и приемлема для пациента), аналитик придает вербальную ‘форму’ опыту, который когда-то был невербальным и бессознательным. Делая это, аналитик создает потенциал для нового опыта переживаний того, что верно, который проистекает из невысказанных бессознательных переживаний пациента.
Произнесение чего-то, что мы считаем верным
Давайте остановимся на время, чтобы подвести итог сказанному. Если оставить в стороне нарциссизм автора, то не важно, кто произносит то, что верно, - важно то, что мысль, что это верно, ‘нашла’ мыслителя, который сделал ее доступной для пациента или полезной для коллег. Также не имеет значения или даже смысла спрашивать: ‘Чья это была идея?’ Что имеет значение в психоанализе – и имеет большое значение – найти слова, которыми выразить то, что имеет свойство быть верным в отношении жизненного опыта переживаний (будь то интерпретация, предложенная пациенту, или вклад аналитика в аналитическую литературу).
В попытке сказать нечто верное аналитик должен одолеть Фройда и всю историю психоаналитических идей, а также историю анализа пациента, с которым работает. В некоторых причудливых отступлениях, сделанных во время консультации, Бион говорил о роли предубеждения в своей клинической работе: ‘Я … бы [полагался только на теорию], если бы устал и не понимал, что происходит’ (1978, стр.52). Для Биона (1975) каждая сессия является началом анализа с новым пациентом. Он любил повторять, что пациент мог иметь жену и двоих детей вчера, а сегодня он не женат.
Аналитик также должен преодолеть себя при письменном изложении идей, которые, как он чувствует, могут содержать некоторую правду в отношении них. Когда статья аналитика хороша, автор может избежать слишком интенсивного личного присутствия в письменной работе. Это достаточно неблагодарный опыт для аналитика читателя, когда реальным предметом статьи, которую читаешь, является сам автор, а не то, что автор говорит, или то, что создается самим читателем в процессе чтения.
Борхес сказал о Шекспире, что он имеет непревзойденную способность делать себя прозрачным в своих стихах и пьесах. В его работе никто не стоит между искусством и аудиторией. Борхес написал в притче о Шекспире (Шекспир Борхеса):
В нем не было никого; за его лицом … и его словами, которые были обильны, потрясающи и неистовы не было ни капли холодности, мечту никто не мечтал … История добавляет, что перед или после смерти [Шекспир] предстал перед Богом и сказал Ему: ‘Я – тот, который был столькими мужчинами, напрасно хочу быть одним и самим собой’. В ответ посреди бури раздался глас божий: Я тоже никто; я мечтал о мире, как ты мечтал о своей работе, мой Шекспир, и среди форм в моих мечтах есть ты, как и я во многих лицах и никто (1949, стр. 248-9).
Этот представление о Шекспире, как ‘человеке, в котором никого нет’, является мучительной картиной человеческой жизни, и все же я нахожу, это изображение отношения Шекспира к своим творениям дает аналитику пример для подражания в смысле того, как сделать себя доступным, чтобы стать всем в жизни пациента (в переносе) и никем (человеком, довольным, что его не замечают и им не занимаются). Изображение Шекспира, данное Борхесом, улавливает ту задачу, которая стоит перед аналитиком, в том, чтобы не навязывать себя – свою сообразительность, живость ума, способность к эмпатии, свой безошибочный выбор lemotjust [просто слов] – между пациентом (или читателем) и интерпретацией.
Стараясь исходить из того, как пациенты (или читатели) пытаются распознать нечто верное, аналитик стремится использовать язык и идеи так, чтобы они эмоционально соответствовали и были прозрачными. В литературе Борхес вряд ли сожалел о чем-то больше, чем о ‘местном колорите’ (1941, стр.42), также как в аналитических интерпретациях Бион больше всего сожалел об абстрактном или конкретноме требовании аналитика, чтобы интерпретация отражала уникальные свойства ‘его знаний, его опыта переживаний, его характера’ (1971, стр. 105) – его собственный ‘местный колорит’.
Литературный критик Майкл Вудс, говоря о месте писателя в его трудах, замечает: ‘Писать – означает не отсутствовать, а стать отсутствующим; быть кем-то, а потом уйти, оставив следы’ (1994, стр.8). Как лучше описать то, к чему мы, как аналитики, стремимся, когда делаем интерпретации. Мы предлагаем интерпретации не для того, чтобы изменить пациента (что было бы попыткой создать пациента в соответствии со своими представлениями), а предложить пациенту нечто, что имеет отношение к его правде, которую пациент может найти полезной, совершая сознательную, предсознательную и бессознательную психологическую работу. Сопровождая любой психологический рост, достигнутый подобным образом, мы находим не подпись аналитика (т.е. его присутствие), и не его отсутствие (которое обозначает его присутствие через отсутствие), а его следы, как кого-то, кто присутствовал и стал отсутствующим, оставив следы. Наиболее существенные следы, оставляемые аналитиком, не идентификация пациента с ним, как личностью, а следы опыта извлечения психологической пользы из того, что аналитик сказал, сделал и кем был.
Что верно и для кого?
Что является верным для относительно стабильной структуры человеческой природы в целом и для отдельной личности в частности не связано ни со временем, ни с местом, ни с культурой – даже позволяя влияние широкого спектра систем ценностей, форм самосознания, религиозных верований и обычаев, видов семейных уз, ролей и т.д. Например, не существует политических или культурных границ, разделяющих людей в отношении переживания боли после смерти ребенка, страха телесного увечья, мук осознания того, что родители и предки не властны защитить себя или своих детей от опасностей жизни и неизбежности смерти. Культура может предложить формы защиты от (или пути избегания) боли потери; или может предоставить традиции, мифы и церемонии, которые облегчают горевание; или может создать ритуалы, которые помогают (или мешают) ослабить контроль над инфантильными желаниями. Каково бы ни было культурное влияние в конкретном случае, наши отклики на основные человеческие задачи взросления, старения и умирания происходят посредством циклов любви и потери; погружение в размышления о бытии и отпор давлению внешней реальности; проявления отваги и поиски безопасности; желания идентифицироваться с теми, кто восхищается, и потребность защитить (от собственных желаний идентификации) непрерывную эволюцию самости; и т.д.
Эти человеческие задачи и циклы, в которых они разыгрываются, вносят вклад в копилку опыта переживаний, который, по моему мнению, верен для всего человечества. Кажется парадоксальным, что то, что верно, не имеет ни времени, ни места и больше, чем любой индивид, и все же жизненно и уникально в ряду обстоятельств, составляющих момент жизненных переживаний одного индивида. Другими словами, в анализе то, что универсально верно, является также исключительно личным и уникальным для каждого пациента и каждого аналитика. Аналитическая интерпретация, чтобы быть удобоваримой для пациента, должна быть выражена словами, которые могут быть применены только к пациенту в данный момент, одновременно сохраняя достоверность по отношению к природе человека в целом.
Мне вспоминается здесь другой комментарий Борхеса:
Хотя можно найти сотни и даже тысячи метафор, все они могут быть прослежены к нескольким простым образцам. Но это не должно нас беспокоить, т.к. каждая метафора отличается: каждый раз, когда используется образец, вариации различны (1967, стр. 40).
Наблюдение Борхеса само по себе является метафорой, предполагающей, что существует набор качеств, делающих нас людьми, и что каждая личность, которая когда-либо жила или будет жить, абсолютно уникальна и содержит вариации очень небольшого количества человеческих качеств. И в этом смысле мы все одинаковы.
Что верно и чья это идея на аналитической сессии?
Все сказанное, т.о., в отношении того, что мы, как аналитики, подразумеваем, когда говорим, что что-то верно, остается чисто абстрактным до тех пор, пока не попадает на почву жизненного опыта аналитической работы. Как аналитик, я не стремлюсь к абсолютной истине в том, что говорю пациенту; я уже счастлив, когда в какой-то момент я и пациент в большой степени достигаем чего-то, что ‘очень близко/ к музыке того, что происходит’ (Heaney, 1979, стр. 173). Относительные правды, достигнутые в поэзии (и в психоанализе), представляют ‘прояснение жизни – не обязательно глобальное прояснение, на котором базируются секты или культы, а кратковременный мораторий на путаницу’ (Фрост, 1939, стр. 777). В последующем отчете об эпизоде аналитической работы мы с пациентом стремимся извлечь психологическую пользу из подобных кратковременных мораториев.
М-р В. позвонил мне, попросив о консультации относительно своего желания начать анализ. Мы назначили время встречи, и я подробно объяснил ему, как добраться до моего кабинета, расположенного на первом этаже моего дома. Незадолго до назначенного времени я услышал, как кто-то (я предположил, что это м-р В.) открывает входную дверь моего дома. Между той дверью и стеклянной внутренней дверью, которая является входом в приемную, находится короткий коридор. Я ожидал услышать открытие двери приемной, но вместо этого я услышал, как кто-то идет назад к входной двери после одно- или двухминутной паузы. Он – шаги были похожи на мужские – повторил свое движение к двери приемной и обратно к входной двери, где оставался еще несколько минут.
Я воспринял эти перемещения мужчины как отвлекающие и интрузивные, а также интригующие. Мисс М., пациентка, которая в это время находилась со мной в кабинете, сказала, что кто-то, возможно, новый пациент, похоже, расхаживает по холлу. Как только мисс М. покинула мой кабинет через дверь, открывающуюся в тот же коридор, по которому ходил мужчина, я услышал шарканье шагов и мужской голос, бормочущий слова извинения. Я быстро вышел посмотреть, что происходит, и впервые встретил м-ра В., высокого мужчину, крепкого телосложения, около сорока. Я сказал: ‘М-р В., я – д-р Огден’, и, направившись к стеклянной двери, добавил: ‘Пожалуйста, присядьте в приемной’. У него был робкое, но слегка озадаченное выражение лица, когда я говорил.
Затем, примерно, через пять минут, когда наступило время для сессии м-ра В., я вошел в приемную и пригласил его в кабинет. Когда мы уселись в свои кресла, м-р В. начал рассказывать, что задумывался над началом анализа, но ‘то одна, то другая вещь’ заставляла откладывать начало. Затем он начал рассказывать, как был направлен ко мне. Я прервал его, сказав, что уже много всего произошло на сессии, и что для нас обоих важно поговорить об этом, прежде чем мы сможем продолжить. На его лице возникло такое же озадаченное выражение лица, как и в коридоре. Я продолжил, сказав м-ру В., что из всех возможных способов представиться, он выбрал тот, который произошел в коридоре. Поэтому, мне кажется, что было бы стыдно не отнестись серьезно к тому, что он пытался сказать о себе в этом представлении.
Когда я закончил, последовала короткая пауза, во время которой у меня возникло мимолетное воспоминание (в виде эмоционально заряженных застывших образов) об инциденте в моем детстве. Мы с другом, Р., играли на замерзшем пруду, воображая себя исследователями Арктики – в то время нам было по 8 лет. Мы оба слишком приблизились к месту, где лед был не слишком крепок. Р провалился под лед и я оказался, смотрящим на него, барахтающегося в ледяной воде. Я понял, что, если встану на четвереньки и попытаюсь вытащить его, лед, возможно, провалится подо мной тоже, и мы оба окажемся в воде, неспособные выбраться. Я побежал на маленький островок в середине пруда, чтобы взять длинную палку, которую там увидел. Когда я вернулся к Р., он ухватился за один конец палки, и я смог вытащить его из воды.
В грезах я воображал нас (так, что это переживалось как вглядывание в фотографию) стоящими молча на льду, Р., окоченевший в своей холодной, промокшей одежде. По мере того, как это происходило, я испытал смесь страха, вины и стыда за то, что он провалился под лед. Пруд был гораздо ближе к моему дому, чем к его, и я чувствовал, что должен был знать признаки слабого льда и должен был предотвратить его падение. Чувство стыда было частично связано с тем, что я убежал от него (реальность того, что я побежал за палкой, с помощью которой пытался вытащить его, не уменьшала стыд). Но впервые, при взгляде на это событие мне пришло в голову, что мы оба испытывали чувство стыда за то, что он промок, как будто он обмочил штаны.
Прошли годы, возможно десятилетие, с тех пор, как я думал об этом происшествии. Вспоминая эти события на сессии с м-ром В., я почувствовал печаль в ответ на образ Р. и меня, ставшими такими изолированными и одинокими в своем страхе и стыде, которые, как я думаю, он испытывал, и которые испытывал я после инцидента. Это не было приключение Тома Сойера и Гекльберри Финна. Р. (я воображал) и я переживали свой страх, также как стыд, по отдельности: мы оба чувствовали себя глупо, потому что забрели на тонкий лед, и трусливо за то, что так испугались.
Мы никогда не упоминали это происшествие в разговорах друг с другом, так же как я никому, кроме матери, не рассказал об этом. Эти мимолетные мысли и чувства заняли мгновение, но оставили эмоциональный след, когда я продолжил говорить м-ру В., что звуки его шагов в коридоре навели меня на мысль, что он испытывает смятение, идя на первую встречу. (Даже когда я произносил их, эти слова – особенно ‘смятение’, ‘идя’ – воспринимались мною, как сухо ‘терапевтические’ и безжизненные).
М-р В. откликнулся, сказав, что, когда он говорил по телефону, то записывал инструкции, которые я ему давал, как добраться в приемную с улицы, но подойдя к дому, обнаружил, что забыл взять клочок бумаги, на котором записал инструкции. Находясь в коридоре между входной дверью и дверью в приемную, он не был уверен, что стеклянная дверь ведет в приемную. Он смутно помнил, что я упоминал стеклянную дверь, но там была и другая дверь (дверь, ведущая из моего кабинета), поэтому, не зная, что делать, он вернулся к входной двери. Верхняя треть входной двери разделена широко расставленными вертикальными рейками. М-р В. сказал, что, когда он находился в коридоре, всматриваясь сквозь ‘решетки’ двери, солнечный свет казался ослепительным. Он почувствовал, как будто находится в тюрьме, в которой за длительный период времени его глаза так привыкли к темноте, что он не мог переносить дневной свет. Поэтому он повернул назад к стеклянной двери и стоял перед ней, не зная войти или нет. Затем он вернулся к входной двери, постоял там некоторое время, наблюдая, как он почувствовал, с большого расстояния, за соседями, жизнь которых он не мог вообразить.
Я сказал м-ру В., что думаю, что он у него не было другого способа, кроме как движениями в коридоре показать мне, что он чувствовал по поводу прихода ко мне. Я сказал, что без слов он рассказал мне, каким одиноким он себя чувствовал в безлюдном коридоре. Он чувствовал себя отгороженным как от прихода ко мне и начала анализа, так и от выхода наружу и от жизни, которую, как он себе воображал, вели люди снаружи. Пациент отозвался удивительно монотонным голосом: ‘Да, я везде чувствую себя гостем, даже в своей семье. Я не знаю, что делать и говорить, когда как, кажется, другим людям это приходит в голову естественным образом. Я в состоянии скрывать это на работе, потому что очень хорошо с ней справляюсь [в его голосе появились высокомерные нотки]. Люди боятся меня на работе. Думаю, потому что я резкий. Я не знаю, как болтать’.
В первой половине часа пациент стремился перейти к обобщениям переживаний за пределами сессии, в то время как я периодически направлял его внимание к тому, что случилось, и что происходило на сессии. Примерно в середине часа, показалось, что м-р В. заинтересовался тем, что случилось в самом начале сессии, и страх его несколько уменьшился. Он сказал, что почувствовал испуг, сначала из-за женщины, потом из-за меня, когда она и я вышли в коридор. ‘Я почувствовал себя застигнутым за занятием, которое не должен был делать. Нет, это не так … Я почувствовал, что меня поймали на том, что я странный и не знаю того, что любой другой знает’.
После короткой паузы м-р В. продолжил, сказав достаточно неэмоционально: ‘Я научился использовать свою отчужденность от других людей в бизнесе, потому что могу смотреть на вещи со стороны. Отстраненность позволяет мне быть безжалостным, т.к. я говорю и делаю с людьми то, что другие не делают в бизнесе. Либо они не думают делать это, либо не хотят … Я не уверен, что. В трудной ситуации я не окажусь первым, кто дрогнет’. Посредством ряда коротких комментариев я сказал пациенту, что думаю, что он мне говорит, что боится, его необычная способность к отчужденности и безжалостности не позволит ему присутствовать на своем собственном анализе; а также я сказал о том, что думаю, что он считает, что очень похоже на то, что я буду так им напуган и подавлен, что не захочу ничего с ним делать.
За эти последовало молчание в течение нескольких минут, которое воспринималось как длительное на столь ранней стадии работы. Но оно не воспринималось как тревожное молчание, поэтому я позволил ему продолжаться. Во время этого молчания я мысленно ‘вернулся’ к грезам, связанным с детским происшествием. В этот раз я по-другому почувствовал эту сцену из детства – у меня возникло более сильное ощущение того, что я видел и чувствовал изнутри нас двоих (Р. и себя). Это переживание грез не было серией застывших образов, а разворачиванием живого опыта переживаний. Я еще сильнее ощутил то, что для меня значило быть восьмилетним мальчиком на замерзшем пруду зимой. Это было состояние души, которое состояло из смеси переживаний грез наяву, состоящих из ощущений, которые возникают так быстро, что нет пространства (или желания) для раздумий. События просто происходят одно за другим. События на пруду теперь оказали эмоциональное влияние, аналогичное лопанью воздушного шара – не только Р. провалился под лед, нас обоих ударила в лицо реальность, которая уничтожила фантазийный аспект исследования на замерзшем пруду/Арктический Круг. Во время грез я почувствовал, что не имею другого выбора, кроме как превратиться в кого-то быстрого, который может делать то, что требуется. Р. был в воде. Я должен был стать кем-то, кем, по моим опасениям, не смогу стать, кем-то более взрослым, чем я был. Я не испытывал ничего героического во время этой (второй) грезы; я чувствовал несколько отключенным от себя, но по большей части у меня было сильное ощущение, что я справился.
К этому времени м-р В. нарушил молчание и начал рассказывать о своей терапии, когда он был в колледже. Он не мог заводить друзей и сильно скучал по дому. Пациент сказал, что для его родителей было большим напряжением платить за терапию. Через некоторое время я сказал м-ру В., что думаю, что, когда, находясь в коридоре, он осознал, что забыл инструкцию, которую записал, он испытал неловкость от своей детскости, и что для него поведение или даже ощущение как у ребенка является постыдной вещью. Пациент ничего не ответил на мой комментарий, но напряжение в его теле заметно уменьшилось. Некоторое время мы молчали. (Мне показалось, что м-р В. тревожился, что прохождение анализа будет напряжением для него – по многим причинам). Затем он сказал: ‘Там, снаружи я чувствовал себя таким потерянным’. В голосе м-ра В. появилась мягкость, когда он произносил эти слова, свойство голоса, которое я не слышал в нем, мягкость, которая оказалась редкой на протяжении нескольких лет его анализа. (Я знал, что чувство пациента, что было ‘там, снаружи’ также было чувством пациента, что начиналось ‘здесь внутри’ – внутри аналитического пространства, внутри отношений со мной – в которых он не чувствовал себя таким потерянным).
Обсуждение
Первая аналитическая встреча м-ра В. началась, честно говоря, примерно на десять минут раньше, чем мы впервые встретились. Его сообщения были сделаны посредством звуков, аукнувшихся на первой встрече и прошедших сквозь лабиринты анализа в целом.
В моем первом взаимодействии с м-ром В. в коридоре я откликнулся на его тревожные невербальные сообщения, идентифицировав себя, как д-р Огден, таким образом, не только называя себя по имени, но говоря о своей профессии, и почему я был там. Твердо, но не холодно я направил его в приемную. Моя интервенция была нацелена как на прекращение коммуникации м-ра В. посредством действий (которые, как оказалось, он плохо контролировал), так и на определение географического пространства, в котором должен был проходить анализ.
В его манере говорить со мной, когда он оказался в кабинете, казалось, что м-р В. игнорировал – и казалось, что он приглашает меня игнорировать, - события, которые произошли в коридоре. Вскоре я прервал м-ра В., когда он стал повторно представлять себя. Говоря ему, что я рассматриваю его действия в коридоре как способ рассказать мне о своих страхах по поводу начала анализа, я сообщил ему то, что серьезно отношусь к его бессознательным попыткам быть услышанным. Моя интерпретация была продолжением моего представления себя, как аналитика, и введения его в психоанализ. Безусловно, в том, что я делал и говорил, содержалась идея, что бессознательное говорит с оттенком правдивости, что оно отличается от, и почти всегда богаче, чем наш сознательный аспект в состоянии ощутить и передать. Я также представился пациенту аналитиком, для которого его поведение в коридоре не являлось нарушением ‘аналитических правил’; скорее оно выражало интенсивные, срочные сообщения о некоторых вещах, которые он бессознательно считал верными в отношении себя, которые, по его ощущениям, мне важно было знать с самого начала.
Ответным откликом м-ра В. на мои слова была робкая, озадаченная улыбка, которую я заметил в коридоре. Казалось, он мне показывает своим выражением лица смесь того, что переживалось как унизительная капитуляция и высокомерный вызов, особая смесь, которая, как я позднее узнал, была характерна для пациента в ответ на определенный вид нарциссической тревоги. Последовало короткое молчание, во время которого я вспомнил ряд застывших образов, мои мальчишеские переживания с Р., когда он провалился под лед. Наиболее яркими в этом воспоминании были чувства страха, стыда, изоляции и вины. Компонент стыда в этом переживании грез показался мне новым и очень реальным: мысль/чувство, что штаны Р. были обмочены потому, что в своем страхе он промочил их мочой (описался) [Моя ‘новая’ мысль/чувство (что промокшие от воды штаны Р. эмоционально являлись эквивалентом намоченной мочой одежды ребенка) не обязательно репрезентирует выкапывание вытесненных аспектов моего детского переживания. Скорее, я представляю переживание на пруду как накопленный опыт переживаний (‘альфа-элементы’ Биона (1962)), которые я хранил и позднее ‘вспомнил’ в контексте того, что происходило на бессознательном уровне на сессии. Мои ‘всплывшие в памяти’ элементы детских переживаний не были полным эквивалентом припоминания того переживания; на самом деле, невозможно сказать, было ли новое воспоминание детского переживания частью изначального переживания – и это не важно. А то, что действительно имеет значение, так это то, что элементы переживаний (прошлых и настоящих) были доступны мне в виде грез, что явилось верным в отношении эмоционального опыта переживаний, который у меня возник с м-ром В. в тот момент.]. Так же мгновенно, как образ Р. (с которым я тщательно идентифицировался) в его постыдно мокрой одежде, у меня возникло чувство печали по поводу нашей изоляции друг от друга, которое испытывали мы с Р.
Эмоциональное поле сессии было изменено таким образом, который я только начинал понимать, переживая свои воспоминания в контексте того, что происходило на бессознательном уровне между пациентом и мной. В след за моими воспоминаниями м-р В. дал подробный, но лишенный аффекта, отчет о своих переживаниях в коридоре. Он рассказал о том, что забыл дома клочок бумаги, на котором записал данные мною инструкции; он продолжил описывать свою неспособность ни войти в приемную, ни покинуть коридор (который воспринимался как тюрьма), и выйти в ослепляющий мир снаружи. Мой отклик на представленное м-ром В. описание своего пребывания в коридоре включало попытку заново сформулировать то, что он сказал несколько иным языком и с расширенным значением. В мои намерения входило подчеркнуть то, посредством чего пациент знал, но в то же время и не знал, что знает, о другом уровне переживаний, которые только что описал. Использованная мною фраза ‘безлюдная территория’, которую м-р В. употребил в своем рассказе, означала не только то, что он чувствовал себя одиноким, но также и трусливым, как будто он никто. Более того, в моем прояснении того, что вхождение в приемную являлось для него эмоциональным эквивалентом начала анализа, я также предположил, что вхождение в приемную представляло угрозу вхождения в потенциально безумный мир бессознательного. (Страх пациента бесконтрольного мира бессознательного также был жив и во мне в виде пугающего воспоминания образа Р., провалившегося под лед.)
Важный сдвиг произошел в середине сессии, когда м-р В. сам вернулся к переживаниям в коридоре. Он сделал деликатное, хотя и важное, эмоциональное различие, сказав: ‘Я почувствовал себя застигнутым за занятием, которое не должен был делать’, - а потом поправился: ‘Нет, это не правильно …. Я почувствовал себя пойманным на том, что я странный и не знаю того, что любой другой знает’. В голосе м-ра В. возникло чувство облегчения, т.к. он смог сказать нечто, что ощущалось верным (и важным) в отношении его эмоционального опыта. Затем пациент быстро ретировался на знакомую почву, оперевшись на защитное всемогущество, заявив, что он может быть более беспощадным, чем другие осмеливаются быть (или даже стремятся быть), и что он никогда первым не отступает.
Последовавшее затем длительное молчание было периодом, когда мне показалось, что пациент и я могли совершить большую бессознательную психологическую работу, которая была не возможна на сессии до этого. Моя греза, возникшая во время этой паузы, состояло в том, что воспоминание о происшествии на пруду оживилось в контексте того, что было обнаружено на сессии в период между первой и второй грезой. В противовес первой грезе, которую я переживал как серию застывших образов, новая греза была опытом разворачивающихся событий, которые казались гораздо ближе и более живыми по отношению к чувствам 8-летнего мальчика. В этом смысле возникло более понимающее, более сочувственное отношение к событию. Я меньше опасался переживать те чувства, которые были связаны с грезой.
В основе второй грезы было ощущения меня как мальчика, призванного (и призыв ко мне) сделать что-то, что, по моим опасениям, эмоционально и физически мне не под силу. Это чувств постыдной незрелости было новым переживанием того чувства, которое я испытывал в первой грезе в идентификации с Р. как 8-летним мальчиком, который вел себя как малыш (который в фантазии написал в штаны).
Наиболее эмоционально приемлемое аффективное состояние, возникшее во второй грезе, позволило мне по-другому слушать м-ра В., я услышал его обращение к финансовым ‘трудностям’ родителей (при оплате его терапии, когда он скучал по дому, находясь в колледже) как комментарий по поводу того, что он чувствовал в тот момент анализа. Я сказал ему, что думаю, что он чувствовал боль и смущение, как ребенок, когда находился в коридоре, и что для него вести себя или даже чувствовать себя как ребенок является очень постыдным. Он ничего не ответил на это, но его тело заметно расслабилось. Не только мои слова, но и сочувственные интонации моего голоса отражали мой собственный опыт в грезах, в которых я испытывал головную боль, и чувствовал себя постыдно инфантильным.
Затем м-р В. сказал ‘Там, снаружи я чувствовал себя таким потерянным’. Эти слова были живыми в отличие от того, что пациент говорил или делал ранее, не только вследствие мягкости его голоса, когда он произносил эти слова, но также и вследствие самих слов. Насколько по-другому звучало бы, если бы он сказал: ‘В коридоре я чувствовал себя потерянным’, - или: ‘Там, снаружи я чувствовал себя очень потерянным’, - вместо: ‘Там, снаружи я чувствовал себя таким потерянным’. Существует нечто безошибочное в отношении правды, когда мы ее слышим.
Завершая это клиническое обсуждение, я хотел бы коротко обратиться к вопросу, кто был тем, кто выдвинул идеи, которые воспринимались, как верные, в описанной сессии. Как я раньше говорил (Огден, 1994, 1997, 2001), я рассматриваю переживание грез аналитиком, как создание бессознательной интерсубъективности, которую я называю ‘аналитическим третьи’, третьим субъектом анализа, который совместно, но асимметрично, создается аналитиком и пациентом [Я рассматриваю совместно созданного бессознательного аналитического третьего в качестве положения в диалектическом напряжении бессознательного анализанда и аналитика, как отдельных людей, каждый из которых имеет свою личную историю, личностную организацию, свойства самосознания, телесные ощущения и т.д. ]. Я считаю бессмысленным для себя рассматривать мои грезы по поводу мальчишеских переживаний на пруду исключительно как отражение работы моего бессознательного или как отражение исключительно работы бессознательного пациента.
С этих позиций невозможно (и бессмысленно) говорить, что это была моя идея или пациента, которая была высказана в интерпретации ощущений м-ра В., как постыдно инфантильных и находящихся выше его понимания, когда его ‘уличили’ в неспособности как начать анализ, так и быть, и жить в мире. Ни м-р В., ни я по отдельности не были авторами того или иного понимания (относительной эмоциональной правды), которое было высказано или не высказано на первой сессии. Если и был автор, то это был бессознательный третий субъект анализа, который является всем и никем – субъект, который был одновременно и м-ром В. и мной, и никем из нас.
Перевод Виталины Чибис
Раздел "Статьи"
Жак Лакан "Стадия зеркала, как образующая функцию Я"
Серж Лебовиси "Теория привязанности и современный психоанализ"
Рональд Бриттон. Интуиция психоаналитика: выборочный факт или сверхценная идея?