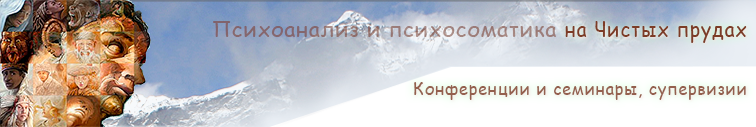Рональд Бриттон. "Интуиция психоаналитика: выборочный факт или сверхценная идея?"
Техника, как бы то ни было, очень проста.
Она просто заключается в ненаправленности внимания на какую-либо частность
и в установлении «равномерно-распределенного внимания»
(Freud 1912: 111)
Эта глава основана на статье, написанной совместно с Steiner (Britton и Steiner 1994). Нам хотелось описать использование аналитиком интуитивно-выборочного факта в развитии его или ее интерпретаций и привлечь внимание к опасной его схожести с кристаллизацией бредовой убежденности сверхценной идеи. Сверхценные идеи могут возникать из детерминирующих бессознательных представлений. В той статье мы обсуждали проблему клинического их различения и подчеркнули важность отслеживания последующего развития интерпретаций на сеансах. Мы согласились совместно просмотреть клинический материал из нашей собственной работы на предмет подходящих примеров, где, по нашему мнению, выборочный факт кристаллизовал настоящую аналитическую ситуацию и где, по нашему мнению, сверхценная идея затруднила аналитическое понимание. Выбранные случаи я использовал в этой главе. Не открывая, чья это была работа, в каждом из случаев, нам хотелось подчеркнуть, что в определенное время в работе любого аналитика выборочный факт крайне схож со сверхценной идеей. Также, была внесена некоторая защита конфиденциальности пациентов. По этим причинам я написал эту главу, как если бы я был аналитиком во всех случаях.
Бион предположил, что устройство мышления аналитика о пациенте напоминает процесс, описанный Анри Пуанкаре в «Науке и методе» (Пуанкаре упоминал Бион в 1967: 127). Этот процесс начинается с некоторого особенного факта в процессе накопления фактов, захватывающего внимание исследователя таким образом, что остальные встраиваются в модель или конфигурацию за счет своей связи с этим «выборочным фактом»,- так как он был уверен, что сходный процесс имеет место в голове аналитика, когда отринув память и желание, он достигает состояния «равномерно-распределенного внимания», предписанного Фройдом для психоаналитической практики (Freud 1912: 111). Бион предложил этот подход, делая обзор психоаналитического метода в своей книге «Пересмотр» («Second Thoughts»; Bion 1967:127).
Была в мышлении аналитика, как он писал: «эволюция, буквально, схождение в неожиданной интуиции массы, предположительно, несвязанных, непоследовательных событий, которым, таким образом, даны последовательность и значение, не обретенные прежде… Это переживание напоминает явление превращения шизопараноидной позиции в депрессивную…. Из материала, порождаемого пациентом, возникает, подобно узору калейдоскопа, конфигурация, которая представляется принадлежащей не только раскрывающейся ситуации, но и множеству других, неочевидно связанных, и которые и не планировалось связывать" (Bion 1967: 127)
Попробую проиллюстрировать это клиническим материалом, взятым из анализа молодой, светски воспитанной женщины из мусульманской страны, успешной и многообещающей писательницы. Пациентка была жената на мусульманине, также со светским мировоззрением, и у них был единственный ребенок. У нее был младший брат – адвокат. Оба родителя умерли, когда она только-только повзрослела. Этот материал выбран, поскольку, несмотря на то, что дело было несколько лет назад, заметки делались сразу же после сеанса, и последующее развитие анализа и жизни пациентки дает обоснованную уверенность, что выбор интерпретаций на этом сеансе был подходящим, в то время когда он происходил.
В тот момент миссис X находилась в анализе в течение нескольких лет. Поначалу, она предавалась интеллектуализации и часто идентифицировалась с аналитиком. Изменения произошли после пары лет анализа, и был временный период довольно значительных нарушений в симптомах и переносе. Она хорошо восстанавливалась, приобретая все больший инсайт, но с тенденцией к негативной терапевтической реакции. Ко времени этого клинического материала, она сделала новые положительные шаги, как в анализе, так и в жизни, но на предыдущем сеансе она вновь встала «на наезженную колею», возвратив старые представления, симптомы и неудовлетворенность проделанной работой.
Миссис Х начала сеанс с жалобы на мое минутное опоздание, и продолжила, описывая себя, как беспощадно выставленную с предыдущего сеанса. После короткого перерыва она рассказала мне сон. Она была на вершине горы. Также, на вершине был огромный гриб. Она боялась, как бы ее не столкнули, но она тоже была воткнута там. Ее муж беспомощно говорил откуда-то из-за горы: «Давай! Нам надо двигаться, чтобы добраться туда». Затем, она добавила: «Он, должно быть, на нижнем склоне».
Ее последующие ассоциации касались раздражения отцом, который всегда приносил большие корзины фруктов и овощей, а после паузы она заговорила о мужчине-пациенте, чьи сеансы следовали за её, как более привилегированном, так как она подозревала, что он – обучающийся аналитик.
Предметом (выборочный факт), целиком поглотившим мое внимание, было замечание, что, чтобы «двигаться», ей необходимо спуститься «по склону». Я взял его, имея в виду, что любой прогресс значил для нее движение вниз от воображаемой позиции на «вершине» нынешних привилегий. Прочие мои мысли сплотились вокруг этой идеи. Мысли (уже накопившиеся у меня в голове со времени начала нашей работы) из частичных идей о ее зависти, моем удовлетворении, и ее относительном восстановлении от серьезной депрессии, моем внимании к ее ревности к другим пациентам и к собственному брату, и трактовка ее отождествления с довольно грандиозным отцом. К этому, пока я слушал её на сеансах, автоматически добавилось мое толкование символики сна и осознание её чувства возмущения. Мои сознательные чувства в контрпереносе были хорошо представлены во сне беспомощностью её отца: «Давай! Нам надо двигаться, чтобы добраться туда». С тех пор, как мое внимание было поглощено идеей ее веры в то, что любой прогресс понуждает ее спускаться «вниз по склону», мои свободно накапливающиеся мысли выстроились вокруг этой идеи, и в моей голове возникла структура.
Она верила именно в то, что бросить сосок не значит быть отнятой от груди – это движение и развитие – но подмена и замещение волшебным грибным пенисом. Следовательно, если бы у нее был, или она была, пенисом, она бы вечно владела грудью. Это подразумевало стимуляцию пениса или владение им. В ее голове это конкретно выражалось в смысле «быть аналитиком». Если бы она могла покинуть иллюзорное место «на вершине», прогресс был бы возможен, но лишь на нижнем склоне.
Я дал интерпретацию: «Вы чувствуете себя отторгнутой и приниженной мной, потому что не можете быть, как я».
Она отреагировала, бурно согласившись и добавив: «Но это так, как есть! И я уверена, что так будет всегда».
Лишь впоследствии это было закреплено на сеансе, как ее взгляд, что дало мне завершить интерпретацию, добавив, что когда она поняла, что принятие интерпретации не делает из нее аналитика, это было инсайтом и продвижением вперед, но переживалось ей подобно спуску по скользкому склону к подчиненному положению.
Она ответила, что еще раз испытала ощущение чего-то раздражающего, попавшего в глаз. Я пояснил, что она видела, что я имел в виду, и это раздражало ее. «Я чувствую ярость, что вы тот, кто вы есть, а я та, кто я!» - произнесла она. После короткого молчания она сказала: «Я чувствую, что раздражение возникает в моём клиторе, и я думала о креме». [Это генитальное ощущение сформировало часть симптомо-комплекса, и она приспособила тюбик с кремом, назначенный ей врачом, в качестве объекта фетиша, который она не применяла, но носила с собой повсюду, чтобы отвратить панику. Пациентка относилась к этому, как к глупости, но временно принудительной [compulsive].
Я заметил, что ее сильно раздражало открытие, что у нее клитор, а не пенис, и что она думала, что, делая мою работу, она почувствует себя так, как если бы у нее был пенис.
После непродолжительной тишины она сказала, что взяла на себя новые управленческие и редакторские обязанности в журнале, для которого была ведущим автором. Это, как она пояснила, было довольно обременительно и неподходяще; она знала, что должна отказаться от них, но чувствовала, что если она их примет, то будет сама все решать и всем управлять.
Пересматривая это, меня поражают две вещи. Одна – это то, что выборочный факт не только ориентировал меня, но держал мышления пациентки, тогда как если бы я более спонтанно отслеживал материал, то мог бы быть пойман на даче символических интерпретаций ради демонстрации бессознательных представлений. Это могло повлечь за собой риск введения моих собственных готовых сверхценных идей, привязанных к таким эмблемным частичным объектам, как «грудь» или «пенис».
Вторая поразившая меня вещь – это бессознательная коммуникативность пациентки и ее готовность принять и ответить на интерпретацию, хотя и с негативным эффектом. Мне сейчас куда яснее, что способ, которым я выделил элемент сна, был связан с отождествлением с фигурой мужа во сне, который, по моему мнению, представлял меня, и о котором также можно говорить, как о части её самой. Это бессознательное отождествление скоординировало мою психику, что, в данном примере, вело к подлинному пониманию. Думаю, это явилось последствием коммуникативного состояния самой пациентки в тот раз. Это сильно контрастирует с ранним периодом ее анализа, когда подобные мои бессознательные идентификации приводили либо в тупик, либо к бессознательному сговору. Эти повторы или сговоры в переносе строятся вокруг сверхценной идеи, выдающей себя за выборочный факт.
«Неожиданная интуиция» (Bion, 1967) аналитика может быть предвестником инсайта. Однако, ее появление может также напоминать возникновение бредовой убежденности. Различие между творческим применением выборочного факта и кристаллизацией сверхценной идеи может не быть очевидным сразу. Было бы самонадеянно со стороны аналитика предполагать у себя иммунитет от бессознательных процессов, которые могут вести к возникновению «сверхценной идеи», маскирующейся под интуитивный инсайт. Следовательно, работа обязательно начинается после интерпретации. Затем, становится критически важно слушать пациента, принимая во внимание его или её сознательные и бессознательные реакции на слова аналитика.
Фройд указывает на трудность оценки и проверки интерпретации (или конструкции) подчеркивая, что наши формулировки – не более чем гипотезы, которые нуждаются в проверке на следующем за ними материале. Он пишет:
Только дальнейший курс анализа даёт нам возможность решить, являются ли наши конструкции правдивыми или непригодными. Мы не делаем вид, что отдельная конструкция – нечто большее, чем предположение, ждущее проверки, подтверждения или отбрасывания. Мы не претендуем на их авторитетность, не нуждаемся в прямом подтверждении со стороны пациента, и не полемизируем с ним, если поначалу он отвергает их. Короче, мы ведем себя по принципу знакомого персонажа одного из фарсов Nestroy (der Zerrissene [Оборванец (австр.)]) – слуги, имеющего один ответ на каждый вопрос или возражение: «Всё прояснится по ходу дела». (Freud 1937: 265)
Важность для аналитика сохранять чувство справедливости своих интерпретаций давно признана, и предвзятые аналитики без труда и справедливо критикуются. Особенно легко мы находим таких нарушителей меж тех, чей подход к психоанализу отличается от нашего собственного. Balint, к примеру, следующим образом описывает свои кляйнианские стереотипы:
Аналитик, практикующий эту технику, последовательно представляет себя пациенту, как знающую и неколебимо твердую личность. В результате, в пациенте постоянно поддерживается впечатление, что аналитик не только всё понимает, но также владеет безошибочными и исключительно правильными средствами выражения всего: переживаний, фантазий, аффектов, эмоций и т.д. После преодоления беспредельной ненависти и двойственности – по моему мнению, пробужденной в большой степени постоянным использованием этой техники – пациент обучается языку психоанализа и pari passu [В равной мере (лат.)] интроецирует идеализированный образ аналитика. (Balint 1968: 107-8)
Это, безусловно, не вписывается в подход Фройда. Многие из нас не согласятся, что это аккуратное описание «кляйнианца». Нам было бы предпочтительней считать это описанием заблуждающегося аналитика любой школы, но, возможно, мы все согласимся, что такой тип психоанализа был бы чрезмерно подавляющим и разрушающим любое развитие.
Крайне сложно узнать, как понимать реакцию пациента в смысле того, что она сообщает об интерпретации. Согласие с аналитиком может выражать угодливость, а несогласие – протест против верной, но болезненной или провоцирующей формы. Тонкая и, подчас, продолжительная работа требует определить это вместе с пониманием, чем этот ответ отличает этот момент у этого пациента – это сущность психоанализа, как мы его понимаем и пытаемся воплощать. Многое зависит от характера, в котором он осуществляется. Если интерпретация предлагается психоаналитиком и принимается пациентом, как гипотеза, которая даётся пациенту для обсуждения, то имеет возможность развиваться атмосфера исследования. Зачастую, этого не происходит, и тогда необходимо предпринять усилия для понимания препятствий к её достижению. Неуспех может быть из-за факторов в самом пациенте, либо в аналитике, либо (чаще всего) во взаимодействии обоих, за счет вступления в силу патологической бессознательной объектной связи. Последняя возможность может сама по себе быть плодородным полем для требования, происходящего из, по сю пору, нераспознанного и невыявленного места, если аналитик может сформулировать его проявления словами и донести до пациента; однако, если оно остаётся неизвестным, то может вести к безвыходному положению.
Пожалуй, наиболее опустошающий и травматический сценарий возникает, когда пациент чувствует, что психоаналитик проталкивает неверные интерпретации в него в стиле, не принимающем возражений, как бы подвергая пациента внушению и промывая ему мозги. Это может быть связано с бредовой убежденностью, направленной на часть психоаналитика, которая может быть связана с имманентно присущим природе аналитика злоупотреблением выборочным фактом для поддержания его или её личного взгляда на вещи.
Shengold (1989) охарактеризовал подобные явления, как «душеубийство», проведя параллели с Schreber, использовавшим этот термин вслед за Winston, героем новеллы Orwell «1984» (Freud 1911a: 14). Оно чрезвычайно похоже на переживания детей, травмированных жестоким обращением, и часто возникает в случае, когда аналитическая ситуация развивается, как нехарактерная реакция контрпереноса внутри аналитика. Когда у некоторых пациентов подобное чувство насилия сопровождается отказом слушать, за этим может последовать уход в безумие или припадок ярости. Еще труднее, когда это становится фундаментом перверсии, включающей мазохистическую покорность пациента.
Также, однако, этот сценарий может появиться, когда исходная интерпретация аналитика переживается, как «душеубийство» из-за сил, работающих внутри пациента в этот момент, даже если она делается в контексте исследования, направленного в эту сторону. Это возможно, когда пациент неосознанно функционирует в «состоянии действия» и полагает, что аналитик тоже. В такой ситуации аналитик сперва должен прояснить, как пациент видит это, и установить с этим связь прежде, чем любая дальнейшая аналитическая работа для исследования причин, по которым пациент переживает это в таком преследовательском ключе, может быть проделана.
В иных случаях действия и реакции сильного переноса и контрпереноса могут быть преобразованы для понимания только в голове психоаналитика; его или её интерпретации на настоящий момент остаются негласными. Но это существенно, так как, в конце концов, это освобождает аналитика от активного участия в бессознательном отыгрывании, даже если и не освобождает от места, занимаемого в восприятии пациентом ситуации. Переживание преследования со стороны пациента или аналитика может быть не единственным сценарием, для которого возникает нужда в преобразовании; бессознательное отыгрывание может принимать другой облик, к примеру, облик эротизации, поклонения или веры в непогрешимость.
Мы обрисовали две ситуации: одну оптимальную, при которой существуют необходимые условия для переживания интерпретации, как гипотезы, предлагаемой аналитиком, и другую, где все интервенции переживаются, как действия. Есть третья возможность, при которой интерпретация употребляется, как первертная или являющаяся объектом поклонения. В некоторых анализах интерпретация может использоваться, как религиозная доктрина, либо как фетиш, либо как необходимый инструмент садомазохистических отношений. В этой, последней категории, интерпретация с заложенной в неё сверхценной идеей аналитика будет чрезвычайно приветствоваться пациентом, ищущим непонимания, как мазохистического удовлетворения.
Как же возможно, когда аналитик полагает, что он или она понимает что-то, различить полезное открытие в речи и сверхценную идею, которую потом пациента заставляют принять. Пример использованием аналитиком сверхценной идеи может помочь нам разобраться с этим.
Пациент, мистер L, чрезмерно обсессивный мужчина, заполнивший многие сеансы доскональным рассмотрением способов, которыми жена его попрекала и разносила за различные жизненные и брачные неудачи. Однажды, он начал описывать, как подвергся нападкам за импульсивную покупку костюма. Особенно, он подвергся критике за то, что не взял жену с собой, что, как он объяснил, было из-за последнего дня распродажи, из-за чего он не мог спланировать время, в которое они с ней бы пересеклись.
Я дал интерпретацию, что для него было очень трудно ожидать, и импульсивное действие помогло ему избегнуть ожидания.
Он спросил, сказал ли я «пробуждать» или «ожидать»? Я отметил эту ослышку и продолжил свои предположения, что озабоченность нападками и преследованием жены давала ему, чем занять голову, пока он ожидал. Я добавил, что было что-то анальное в том, как он контролировал свои объекты во время ожидания, и я связал это с его озабоченностью деньгами.
Пациент ответил, описав происшествие, случившееся несколькими днями ранее, когда он ждал жену наверху в театре. Он был уверен, что она опоздает, и сомневался, придет ли она вообще после её утреннего гнева на него, но оказалось, что она уже ждала его внизу, в баре.
Мне уже стало неловко за интерпретацию. Во-первых, ему нужно было спросить, было ли там «пробуждать» или «ожидать», тогда как, вероятно, не это было у него на уме; во-вторых, это звучало теоретизированно и насильственно, особенно, моя отсылка к анальности безо всякого действительного анального материала, и, наконец, я понимал, что я читал интересную для меня книгу, в которой детально обсуждалось ожидание.
Я произнёс: «Думаю, вы комментируете мою интерпретацию. Похожу, что вы чувствуете, что мы в разных местах. Моя интерпретация не затронула вас, и возможно, вы почувствовали, что это было нечто, чем я был озабочен, и поэтому у вас она вызывает недоверие».
Пациент ответил, что он не был уверен, и что он думал, что я метил в значимую область. Конечно, для него серьезной трудностью являлось ожидание, но также были большие проблемы в приступлении к делу.
Я был крайне неуверен в том, удалось ли установить плодотворный контакт или нет, и меня мало убеждал его интерес к вопросу ожидания, который мог показывать его желание успокоить и умиротворить меня так же, как он обычно это делал с женой.
На следующий день он начал с того, что хотел вернуться к теме ожидания, и начал детализованно описывать свои способы получения удовлетворения от ожидания. Он сказал, что его искушало откладывание и избегание деятельности, как если бы он был соблазнён искусительницей, неким женским эквивалентом Даймона Благоразумия. Он связал это с водой и Венецией, которую недавно описывал в связи с темой разных граней привлекательности смерти. Было что-то особенное в строениях, поднимающихся из воды и в путешествии, подобном ожиданию попасть в здания. Ожидание также походило на пребывание в теплой ванне, которое ему нравилось. Жена критиковала его за засыпание в ванной, но после длительного дня он был напряжён, и обнаружил, что напряжение постепенно переходит в тёплую воду.
После паузы он сказал: «Я правильно уловил значение?». Затем, он предположил, что удовлетворение от цепляние за время похоже на удерживание денег, и предположил, что оба крайне анальны. Возможно, он сдерживает вещи. Были трудности в офисе, вырастающие из того факта, что он мог писать короткие статьи; но большие, в областях, которые ему в самом деле были интересны, откладывались, поскольку он продолжал собирать материал и идеи.
Я предположил, что пациент всё ещё не был уверен, на том ли я месте, когда я поднял вопрос ожидания предыдущего дня. Теперь в этом было трудно разобраться, поскольку он уловил мою идею. Он, кажется, держался за неё, как за линию жизни (линии жизни были недавней темой), и было неясно, соответствовало ли это чему-то, что происходило с ним или искренне его интересовало.
Пациент произнёс: «Имеет ли это значение, если это что-то, в чём мне нужно разобраться? Тем не менее, есть опасность. Это напоминает мне о том, как я вижу структуру в случайном наборе событий. Если структура проявилась, очень трудно прекратить её видеть, даже если её там нет. Анализ может быть подобен этому».
Я проинтерпретировал, что его искушало держаться за структуру, подобную линии жизни, которая помогала ему узнать, где он есть, и что он уцепился за меня, пытаясь удержаться за что-то в моём разуме. В таком случае, его не волновало, что это могла быть ложная структура.
Пациент продолжил мне рассказывать о существенной работе, которой он занимался, которая выводила на чистую воду и дискредитировала важных людей. Ему сказали, что спекуляции, которые он обнаружил, должны оставаться в тайне ещё четыре месяца, и лишь затем через скрытые источники ему предоставят информацию. Он начал выстраивать картину, складывая кусочки мозаики. «Это как в Греческом мифе» - сказал он. «Есть как бы пещера Алладина с нераскрытыми сокровищами внутри, и привратник, который меня не впустит. Но я их раскрыл». Он отчётливо торжествовал и продолжил говорить о своей тревоге разоблачить столь важных людей. После поддержки своего начальника он решился продолжить.
Я дал интерпретацию, что он почувствовал себя воодушевленным мной, чтобы проверить, где структура была ложной, и рискнуть отслеживать меня и разоблачить меня, если он заподозрит, что я представлял его интерпретациями, которые, по его мнению, могли быть подозрительными.
Он ответил, описывая нечестность его собственных методов расследования, которыми он успокаивал свидетелей, болтая с ними о чём-то очень для них интересном, и только в качестве отступления выспрашивал у них нужную информацию.
Я интерпретировал, что, возможно, взглянув назад, он чувствовал, что согласился разговаривать об ожидании, о Венеции и об анальных механизмах, потому что думал, что это интересует меня, в то время как ему на самом деле бы хотелось прояснить мой стиль работы, и в особенности, был ли он ложен или нет.
Он сказал, что не знает, что думать об этом вопросе. Раньше он говорил мне, что он подчеркнуто избегает читать о психоанализе или выяснять, писал ли я книги или статьи. Теперь он признал, что видел статью во французской газете о вновь вспыхивающих войнах среди французских психоаналитиков, и заинтересовался, проходят ли подобные войны в Лондоне. Он предположил, что я кляйнианец, но не знал, что это значит. Он проассоциировал это с интересом к детям, который, по его мнению, был достойным, но потом сказал, что он по-настоящему боится быть заключённым в психическую смирительную рубашку. Он описал математику, как науку, состоящую из плотно набитых разрозненных областей, так что если попадаешь в одну, то очень трудно из неё выбраться.
Материал указывает на факт, что я ввёл сверхценную идею, когда интерпретировал трудности пациента, как ожидание, и что он использовал мазохистический стиль мышления в помощь своему ожиданию. Возможно, эта тема была справедлива и значима, но в этом случае пациент ожидал другого. Предпочтительнее, чем настаивать, что это работа аналитика - понять и помочь ему - пациент хотел покинуть своё собственное психическое место и соединиться с аналитиком в его занятии. Так он понудил меня продолжить поставлять материал об ожидании и анальных механизмах, как бы подкрепляя мою интерпретацию. Прочие его ассоциации, однако, раскрыли отсутствие связей.
Защитное использование сверхценных идей
В ситуации, когда значение не очевидно и факты накапливаются, связь одной психической частицы с другой неопределенно, пока внимание аналитика приковывается к чему-то, что таким образом становится выборочным фактом, и возникает структура других частиц психики, выстраивающихся по отношению к первой. Свежеоформленная структура (вмещённая) высокоспецифична для этого пациента в этот момент в этом анализе. Она находит место в разуме аналитика, обеспеченном предсуществующей абстрактной формой (вместилищем) и занимает его. Новообразованная структура, таким образом, становится воплощением абстрактной теории. Эта теория, подобно пустой форме «состояния предвкушения» (Bion 1962b: 91) ожидала конкретного случая, который облечет её в плоть и кровь.
Эти теории, или вместилища предвкушающего, скапливаются в разуме аналитика и выводятся из общих теорий психоаналитика, его или её личных теорий, клинического опыта с другими пациентами и копящегося опыта с данным пациентом. Бион придавал особое значение тому, что связь – как преконцепция к воплощению, как вместилище к вмещаемому, но не наоборот (там же). Другими словами, это должен быть случай, где разум аналитика, отталкивающийся от его теорий, ждёт, как вместилище смутных ожиданий, заполнения переживаниями и материалом пациента, нежели теория, ищущая своего пациента! Движение от бессвязных фрагментов через выборочный факт к связности и вместимости заключает все три цикла преобразования, описанных Бионом. От Ps к D, от невмещённого к вмещённому, и от преконцепции к концепции.
В анализе пациент с аналитиком движутся через циклы Ps и D, как я объяснил в главе 6: Ps(n) ? D(n) ? Ps(n+1). Думаю, лишь это и возможно в случае, когда чувство всеобъемлющего вмещения уже существует, ограничивая чувство расщеплённости и наразумения, которые уже не безграничны, аннулируя всякое значение. В противном случае, переживание «ничтожности», ужасающей «бездонности» или полного «неразумения». Для многих пациентов, по крайней мере, на протяжении длительного времени, вера в аналитика и сеттинг обеспечивают внешнее вместилище. Когда из-за недостатка или потери веры, этого нет, ситуация становится удручающей и, подчас, драматической. Значение тогда отыскивается не для того, чтобы разобраться, но для обеспечения альтернативы отсутствующему вместилищу – словами второго пациента, как линия жизни.
Предположительно, это одна из причин, почему идеи становятся сверхценными у некоторых людей. Они используются в качестве подпорки для хрупкого чувства устойчивости в физическом пространстве, и поэтому от них требуется постоянство и практичность. В подобных обстоятельствах интерпретация может стать средством достижения безопасности, нежели исследования, и её постоянство может быть более ценно, чем истинность. При таком положении вещей отсутствует ожидание развития выборочного факта. Сверхценная идея – это предвыборочный факт, не возникающий, а принудительный в каждой психической ситуации, вынуждающий другие частицы психики ориентироваться на него. Сверхценная идея служит постоянным квази-выборочным фактом, устраняющим тревогу ожидания возникновения чего-то.
Пересматривая с этих позиций, «цепляние» мистера L за предвыборочный факт или сверхценную идею его аналитика для обеспечения себя линией жизни имело дальнейшее значение. «Имеет ли это значение – сказал мистер L - если это что-то, в чём мне нужно разобраться?» Он уже имел ответ: «Я вижу структуру в случайном наборе событий. Если структура проявилась, очень трудно прекратить её видеть, даже если её там нет. Анализ может быть подобен этому». Если бы он был «подобен этому», анализ был бы совместным предприятием по обеспечению продуманных жизненных линий для страха бесконечного падения или бултыхания в неуверенности. Тогда бы ожидание появления выборочного факта было бы подобно ожиданию персонажей Beckett «В ожидании Godoth», бесконечном ожидании неверующего. Невозможность ждать возникает, в конце концов, в сердце отношений на сеансе; являющаяся впервые в контрпереносе аналитика, в котором он отражает систему пациента за счет поддержания в себе предвыборочного факта.
Два случая, по-видимому, дали начало вторжению предвыборочного факта или сверхценной идеи в поле анализа, таким образом, затуманивая или предотвращая естественное развитие сеанса. В первом случае, когда пациент с предвыборочным фактом предоставляет материал или интерпретирует поведение аналитика, подчиняясь сверхценной идее, ограничивая таким образом анализ пределами своих существующих и, по большей части, бессознательных представлений. Во втором, аналитик выпускает свой страх потери психоаналитической идентичности в ситуации неопределенности или замешательства, присоединяясь к сверхценной идее, а затем ища подтверждения у пациента тех представлений, которые бессознательно считает необходимыми для личной или профессиональной стабильности.
В первом случае, задача аналитика – обнаружение бессознательного представления пациента, устанавливающего рамки каждой аналитической ситуации. Во втором, его задача – опознание собственного детерминирующего использования этой идеи и попытка понять собственное поведение. Это может быть непроработанным материалом его собственного анализа или специфическим контрпереносом на пациента, в случае чего выявление его, как части анализа пациента может открыть повторное отыгрывание бессознательных отношений с объектом в переносе.
Как обсуждалось в главе 4, бывает, что даже если интерпретация аналитика проходит без бессознательной предвзятости и выдвигается в свободной форме, пациент реагирует, как будто произошло вторжение в его разум и душу. Очевидно, важно отличать это от чувствительности некоторых пациентов к опасности навязанного представления, побуждающей их неистово реагировать, когда бы сверхценная идея аналитика ни внедрялась. Невозможно сделать это немедленно, а в случае некоторых пациентов, длительное время.
Отсутствующий объект переживается в шизопараноидном состоянии, как злое присутствие, «ни-что [No-thing ( = не-вещь )]». Интерпретация раскрывает, что связано это не с самой что [ The thing itself ( = самой вещью ). Коннотирует с the Thing in itself ( Вещью-в-себе )], а с её репрезентацией или символом. Если фрустрация и потеря, переживаемые в отсутствии самого объекта могут быть вынесены, это расширяет пространство мышления на эту величину. В Ps все «мысли» переживаются, как пространство, занимающее множественность «ни-что», и, следовательно, интерпретация ощущается, как занимающая место в разуме пациента, принадлежащее отсутствующему объекту, самой что, рассматриваемой пациентом, как его собственность. Следовательно, есть ощущение ограбления важного внутреннего объекта аналитиком, применившим интерпретацию. Мы учитываем, что в этих очень сложных ситуациях в анализе важно очень аккуратно исследовать истинную природу негативных переживаний пациентом интервенций аналитика для того, чтобы выявить эту разницу.
С покладистыми пациентами, вроде мистера L, связаны иные сложности. Как и с пациентами, описанными в 5 и 7 главах, проблема связана с тем, что аналитик воодушевленно поверит, что его сверхценные идеи являются выборочным фактом, и, как допустимая солидарность, будут цениться более, чем истина.
раздел "Статьи"
Рональд Бриттон. Освобождение от Супер-Эго
Серж Лебовиси "Теория привязанности и современный психоанализ"
Томас Огден. Что верно и чья это была идея?