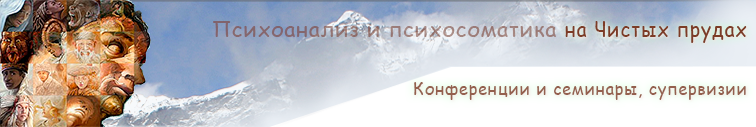Зигмунд Фройд "Заметки об одном случае невроза навязчивости" (Rattenmann) 1909г.
I Из историии болезни
Молодой человек с университетским образованием объявляется у меня и
рассказывает, что с самого детства, но особенно сильно в последние
четыре года страдает навязчивыми представлениями. Основным
содержанием его недуга являются опасения, что с двумя людьми,
которых он очень любит, с отцом и некой дамой, которую он почитает,
может что-то случиться. Кроме того, он испытывает навязчивые
импульсы, например, перерезать себе бритвой горло, и создает запреты,
относящиеся также к безразличным для него вещам. На борьбу с этими
своими идеями он потратил многие годы и поэтому не преуспел в жизни.
Опробованные им способы лечения ничем ему не помогли, за исключением
гидротерапии в лечебнице у***, но и это, видимо, лишь потому, что он
завел там знакомство, приведшее к регулярным половым сношениям.
Сейчас такой возможности он не имеет, совокупляется нерегулярно и
редко. К проституткам он испытывает отвращение. В целом его
сексуальная жизнь была скудной, онанизм — в шестнадцать или
семнадцать лет — играл лишь незначительную роль. Потенция у него
была нормальной; первый коитус — в 26 лет.
Он производит впечатление проницательного человека с ясным умом. На
мой вопрос, что побудило его выдвинуть на передний план сведения о
своей сексуальной жизни, он отвечает, что именно это он знает о моих
теориях. Он ничего не читал из моих сочинений, но недавно,
перелистывая одну мою книгу 1*,
наткнулся на объяснение необычных связей между словами, которые так
напомнили ему о его собственной «умственной работе» со своими идеями,
что он решился довериться мне.
А. Начало лечения
После того как на следующий день я обязал его выполнять единственное
условие лечения — говорить все, что приходит в голову, даже если это
ему неприятно, даже если это ему кажется неважным, неуместным или
бессмысленным, и предложил ему выбрать тему, с которой он хочет
приступить к своим сообщениям, он начинает следующим образом 1*.
У него есть друг, которого он очень высоко ценит. Он всегда идет к
нему, когда его мучает преступный импульс, и спрашивает, не
презирает ли тот его как преступника. Друг поддерживает его, уверяя,
что тот безупречный человек, который, видимо, с юных лет приучен
смотреть на жизнь с таких позиций. Такое же влияние когда-то раньше
на него оказывал другой человек, 19-летний студент, когда самому ему
было четырнадцать или пятнадцать лет. Этот студент испытывал к нему
симпатию и чрезвычайно повысил у него чувство собственной значимости,
из-за чего мой пациент стал казаться себе чуть ли не гением. Позднее
этот студент стал его домашним учителем, но затем вдруг изменил свое
поведение, низведя его до простофили. В конце концов ему стало
понятно, что тот интересовался одной из его сестер и связался с ним
лишь для того, чтобы иметь доступ в дом. Это было первым большим
потрясением в его жизни. Затем он как бы
невзначай продолжает.
Б. Инфантильная сексуальность
«Моя сексуальная жизнь началась очень рано. Я помню одну сцену, когда мне было четыре или пять лет (с шести лет я вообще все помню), которая через несколько лет отчетливо всплыла в мой памяти. У нас была очень красивая юная гувернантка, которую звали фройляйн Петер 2*. Однажды вечером она лежала на софе в легком одеянии и читала; я лежал рядом и попросил разрешить мне залезть ей под юбку. Она мне это позволила с условием, что я никому об этом не расскажу.
*1 Отредактировано по записи, сделанной вечером после лечебного сеанса, с как можно большей опорой на запомнившиеся слова пациента. — Я могу только предостеречь от того, чтобы само время лечения использовать для фиксации услышанного. Отвлечение внимания врача приносит больному вред, который нельзя возместить пользой от точного воспроизведения истории болезни.
*2 Бывший аналитик доктор Альфред Адлер однажды в приватном докладе упомянул об особом значении, которое придается самым ранним сообщениям пациентов. Вот доказательство этого. Вступительные слова пациента подчеркивают влияние, которое оказывают на него мужчины, роль гомосексуального выбора объекта в его жизни, и сразу после этого слышится второй мотив, который окажется важным позднее, — конфликт и противоположность интересов у мужчины и женщины. Также и то, что первую красивую гувернантку он помнит по ее фамилии, случайно совпадающей с мужским именем, следует включить в эту взаимосвязь. В мешанских кругах Вены гувернантку чаще принято назвать по имени, и именно оно скорее сохраняется в памяти. [В первоначальной форме в 1909 году эта сноска начиналась словами: «Мой коллега, доктор Альфред Адлер...» Нынешняя редакция восходит к 1913 году.]
На ней почти
ничего не было, и я ощупал ее гениталии и живот, показавшийся мне
забавным. С того времени у меня осталось жгучее, мучительное желание
видеть женское тело. Я все еще помню, с каким напряжением я ожидал в
купальне, куда мне пока еще позволялось ходить вместе с фройляйн и
сестрами, когда фрой-ляйн раздетой войдет в воду. С шести лет я
помню больше. Тогда у нас была другая фройляйн, тоже юная и
красивая. У нее на ягодицах были прыщи, которые она обычно по
вечерам выдавливала. Я подкарауливал этот момент, чтобы
удовлетворить свое любопытство. Точно также в купальне, хотя
фройляйн Лина была более скромной, чем ее предшественница. (В ответ
на промежуточный вопрос: "Я редко спал в ее комнате, чаще всего — с
родителями".) Я помню одну сцену, когда мне было семь лет. Однажды
вечером мы сидели все вместе: фройляйн, кухарка, еще одна девушка, я
и мой брат, который младше меня на полтора года. Неожиданно я
услышал из разговора девушек, как фройляйн Лина сказала: "С малышом
это уже можно делать, но Пауль (я) слишком неловок, и у него
наверняка ничего не выйдет". Я не понял точно, что имелось в виду,
но почувствовал к себе пренебрежение и начал плакать. Лина утешила
меня и рассказала, как девушка, которая сделала нечто подобное с
мальчиком, вверенным ее попечению, на несколько месяцев заключили в
тюрьму. Я не думаю, что она делала со мной что-то нехорошее, но я
позволял себе по отношению к ней многие вольности. Когда я забирался
в ее постель, то сбрасывал с нее одеяло и прикасался к ней, что она
терпеливо сносила. Она была не очень образованной и, видимо, весьма
озабоченной сексуально. В 23 года у нее уже был ребенок, за отца
которого она вышла замуж позднее, так что сегодня ее зовут госпожа
жена надворного советника. Я по-прежнему часто вижу ее на улице».
«Уже с шести лет я страдал от эрекций и знаю, что однажды пришел к
маме, чтобы на это пожаловаться. Я также знаю, что должен был при
этом преодолевать сомнения, ибо подозревал взаимосвязь с моими
представлениями и моим любопытством, и на протяжении какого-то
времени имел болезненную идею, что родители знают о моих мыслях,
которую я объяснял себе тем, что я высказывал их, сам того не слыша.
Я усматриваю в этом начало моей болезни. Были люди, девочки, которые
мне очень нравились и которых мне необычайно хотелось увидеть
голыми. Но всякий раз, когда возникало это желание, я испытывал
зловещее чувство, что, если я буду об этом думать, что-то непременно
случится, и поэтому мне приходилось делать разные вещи, чтобы это
предотвратить».
(В качестве образца таких опасений в ответ на мой вопрос он
указывает: «К примеру, умрет мой отец».) «Мысли о смерти отца долгое
время занимали меня с самого раннего возраста и очень меня
угнетали».
По этому поводу я с удивлением узнаю, что отец пациента, с которым
связаны его нынешние навязчивые опасения, умер еще несколько лет
назад.
То, что пациент рассказывает на первом сеансе лечения о событиях,
происходивших с ним в 6—7-летнем возрасте, является не только, как
он думает, началом болезни, но уже и самой болезнью, полновесным
неврозом навязчивости, где налицо все существенные элементы, и
вместе с тем ядром и прототипом последующего недуга, так сказать,
простейшим организмом, изучение которого уже позволяет нам понять
условия сложной организации нынешнего заболевания. Мы видим, что
ребенок находится во власти одного из компонентов сексуального
влечения, удовольствия от разглядывания, результат которого — все
снова и снова с большой интенсивностью проявляющееся желание видеть
обнаженными лиц женского пола, которые ему нравятся. Это желание
соответствует последующей навязчивой идее; если оно пока не имеет
навязчивого характера, то это объясняется тем, что «я» еще не
противопоставило себя ему полностью, не ощущает его как чужое;
однако где-то уже зарождается протест против этого желания, ибо его
проявление регулярно сопровождается мучительным аффектом 1*.
Очевидно, конфликт имел место в душевной жизни юного
сладострастника; рядом с навязчивым желанием находится навязчивое
опасение, тесно связанное с желанием: как только он думает о чем-то
подобном, он вынужден опасаться, что случится нечто ужасное.
*1 Следует напомнить о том, что предпринимались попытки объяснить навязчивые представления без учета аффектов!
Это ужасное уже
облачается в характерную неопределенность, которая впредь
присутствует во всех проявлениях невроза. Но у ребенка нетрудно
выявить, что скрывается за подобной неопределенностью. Если удается
найти пример какой-либо общей особенности невроза навязчивости, то
можно не сомневаться, что этот пример и есть то первоначальное и
подлинное, которое должно было скрываться за обобщением. Таким
образом, навязчивое опасение, восстановленное в своем значении,
гласило: «Если мне будет хотеться увидеть обнаженную женщину, то мой
отец умрет». Неприятный аффект имеет явный оттенок жуткого,
суеверного и уже дает толчок импульсам что-либо сделать, чтобы
предотвратить беду, которые проявятся в последующих защитных мерах.
Итак: эротическое влечение и протест против него, желание (еще не
ставшее навязчивым) и противодействующее ему (уже ставшее
навязчивым) опасение, мучительный аффект и стремление к защитным
действиям — инвентарный список невроза полон. Более того, имеется
еще и нечто другое, своего рода депирозное 1* или бредовое
образование необычного содержания: родители знали его мысли,
поскольку он их высказывал, сам того не слыша. Едва ли мы ошибемся,
увидев в этой детской попытке объяснения предчувствие тех
удивительных душевных процессов, которые мы называем
бессознательными и без которых мы не можем обойтись при научном
прояснении непонятного положения вещей. «Я высказываю свои мысли, их
не слыша» звучит как проекция вовне нашего собственного
предположения, что у нас есть мысли, о которых мы ничего не знаем,
подобно эндопсихическому восприятию вытесненного.
Итак, мы четко видим: этот элементарный инфантильный невроз уже
имеет свою проблему и свою кажущуюся абсурдность, как и любой
сложный невроз взрослого человека. Что должно означать, что отец
умрет, если у ребенка возникнет сладострастное желание? Является ли
это полной бессмыслицей или существуют способы понять эту фразу,
осмыслить ее как неизбежный результат прежних событий и предпосылок?
Если мы применим выводы, полученные где-нибудь в другом месте, к
этому случаю детского невроза, то мы должны будем предположить, что
также и здесь, то есть до шести лет, имели место травматические
переживания, конфликты и вытеснения, которые сами подверглись
амнезии, но в качестве осадка оставили после себя данное содержание
навязчивого опасения.
*1 [Здесь и в других местах в этой работе понятие «делирий» употребляется в особом смысле, который разъясняется ниже.]
В дальнейшем мы
узнаем, насколько для нас возможно вновь отыскать или с некоторой
уверенностью сконструировать эти забытые переживания. Между тем в
качестве совпадения, которое, вероятно, не может быть безразличным
для нас, мы хотим еще подчеркнуть, что детская амнезия пациента
пришла к своему концу в шесть лет.
Подобное начало хронического невроза навязчивости в раннем детстве,
сопровождающегося сладострастными желаниями, к которым
присоединяются зловещие ожидания и склонность к защитным действиям,
мне знакомо из многочисленных других случаев. Такое начало типично,
хотя, вероятно, оно и не является единственно возможным. Прежде чем
мы перейдем к содержанию второго сеанса, добавим еще несколько слов
о ранних сексуальных переживаниях пациента. Едва ли можно
воспротивиться тому, чтобы охарактеризовать их как необычайно
обильные и чреватые последствиями. Но так же обстоит дело и в других
случаях невроза навязчивости, которые мне удалось проанализировать.
Характерное свойство преждевременной сексуальной активности здесь, в
отличие от истерии, постоянно присутствует. Невроз навязчивости
гораздо отчетливее, чем истерия, позволяет установить, что факторы,
формирующие психоневроз, следует искать не в актуальной, а в
инфантильной сексуальной жизни. Нынешняя сексуальная активность
больного неврозом навязчивости стороннему наблюдателю может
показаться совершенно нормальной, зачастую она обнаруживает намного
меньше патогенных моментов и ненормаль-ностей, чем у нашего
пациента.
В. Великое навязчивое опасение
«Я думаю начать сегодня с переживания, которое стало для меня
непосредственным поводом для того, чтобы к вам обратиться. Дело было
в августе во время военных учений в ***. До этого я себя плохо
чувствовал и мучил себя всякими навязчивыми мыслями, которые,
однако, во время учений вскоре отступили на задний план. Мне
хотелось показать кадровым офицерам, что я не только чему-то
научился, но и кое-что могу выдержать. Однажды мы выступили в
короткий поход из ***. На привале я потерял свое пенсне и, хотя я
мог бы легко его найти, я все же не хотел задерживать выступление и
от него отказался, но телеграфировал моему оптику в Вену, чтобы он
срочно прислал мне замену. На том же привале я присел между двумя
офицерами, один из которых, капитан с чешским именем, был для меня
значимым человеком. Я даже несколько его побаивался, ибо он явно
получал удовольствие от жестокости. Я не хочу утверждать, что он был
плохим человеком, но за офицерским обедом он постоянно выступал за
введение телесных наказаний, из-за чего мне пришлось ему решительно
возразить. Итак, на этом привале между нами завязалась беседа, и
капитан сказал, что прочел о совершенно ужасном наказании,
применявшемся на Востоке...»
Тут он прерывается, встает с места и просит меня его избавить от
описания деталей. Я заверил его, что и сам не склонен к жестокости,
безусловно, не хочу его мучить, но, разумеется, не могу дать ему то,
на что не имею права. С таким же успехом он мог бы меня попросить
достать ему звезду с неба. Преодоление сопротивлений — это
требование лечения, с которым мы не можем не считаться. (О понятии
«сопротивление» я рассказал в начале этого сеанса, когда он сказал,
что должен многое в себе преодолеть, чтобы сообщить о своем
переживании.) Я продолжил: «Но что я мог бы сделать, чтобы
догадаться о том, на что вы намекнули. Быть может, вы имеете в виду
сажание на кол?» — «Нет, неверно: преступника связывали (он
выражался настолько невразумительно, что я не смог сразу догадаться,
в какой позе), его ягодицы накрывали горшком, а затем в него
запускали крыс, которые... — он опять встал, выказывая все признаки
ужаса и сопротивления, — пробуравливались». «В задний проход», —
посмел я дополнить.
Во всех более важных местах рассказа можно было заметить, что его
лицо принимало весьма необычное смешанное выражение, которое я могу
истолковать только как ужас от своего собственного неизвестного ему
удовольствия. Оно превеликим трудом продолжает: «В этот момент меня
озаряет представление, что это происходит с неким дорогим мне
человеком» 1* На прямой вопрос он сообщает, что не он сам
осуществляет это наказание, а что оно осуществляется обезличенно.
После непродолжительного угадывания я узнаю, что человеком, к
которому относилось то «представление», была уважаемая им дама.
*1 Он говорит «представление»; более сильное и важное обозначение — «желание» или «опасение», — очевидно скрыто цензурой. Своеобразную неопределенность всех его речей, к сожалению, я воспроизвести не могу.
Он прерывает свой рассказ, чтобы убедить меня в том, сколь чужды и
неприятны ему эти мысли и с какой необычайной стремительностью
проносится в его голове все, что с ними связывается. Одновременно с
мыслью всегда тут как тут «санкция», то есть защитная мера, которой
он должен следовать, чтобы не осуществить такую фантазию. Когда
капитан говорил о том чудовищном наказании и у него возникали те
идеи, ему еще удавалось защититься от них обеих с помощью своих
привычных формул: с помощью «но», сопровождавшегося
пренебрежительным движением рукой, и с помощью фразы «Что это тебе
приходит в голову?»
Употребление множественного числа меня озадачило, как, должно быть,
остается непонятным и для читателя. Ведь до сих пор мы слышали лишь
об одной идее — о наказании крысами, которому подвергается дама.
Теперь он вынужден признать, что одновременно у него возникала и
другая мысль — наказание касается и его отца. Поскольку его отец
давно умер, это навязчивое опасение было намного более
бессмысленным, чем первое, и еще какое-то время пыталось скрываться.
Следующим вечером тот же капитан вручил ему пришедшую по почте
посылку и сказал: «Обер-лейтенант А. 1* оплатил за тебя почтовое
отправление. Ты должен ему вернуть деньги». В посылке находилось
заказанное по телеграфу пенсне. И в этот момент у него оформилась
«санкция»: если не вернуть деньги, то это случится (то есть фантазия
о крысах осуществится в отношении отца и дамы). И тут же для
предотвращения этой санкции по известному ему типу возникло
приказание, похожее на присягу: « Ты должен вернуть обер-лейтенанту
А. 3,80 кроны», которое он произнес чуть ли не вполголоса.
Через два дня военные учения подошли к концу. Все это время он
пытался вернуть обер-лейтенанту А. небольшую сумму, чему
препятствовали все новые сложности на первый взгляд объективной
природы. Сначала он пытался уплатить деньги через другого офицера,
который пошел на почту, но когда тот вернул ему деньги, объяснив,
что не застал обер-лейтенанта А. на почте, очень обрадовался, ибо
этот способ исполнения клятвы его не удовлетворял, поскольку не
соответствовал ее дословному тексту:« Ты должен возвратить деньги
обер-лейтенанту А.» Наконец он встретил нужного ему обер-лейтенанта
А., который, однако, отказался принять деньги , заявив, что ничего
за него не платил и что вообще почту получает не он, а
обер-лейтенант Б.
*1 Имена здесь особого значения не имеют.
Он был очень
расстроен из-за того, что не может сдержать свою клятву, потому что
ее предпосылка была ошибочна, и придумал весьма необычный выход из
положения: он пойдет с обоими господами на почту, там А. даст
почтовой служащей 3,80 кроны, она отдаст их Б., а он затем в
соответствии с дословным текстом клятвы вернет А. 3,80 кроны.
Я не удивлюсь, если в этом месте читатель утратит свою способность к
пониманию, ибо даже подробное описание внешних событий этих дней и
своих реакций на них, которое дал мне пациент, страдало внутренними
противоречиями и выглядело ужасно запутанным. Только после того как
он рассказал эту историю в третий раз, мне удалось донести до него
эти неясности и обнаружить ошибки памяти и смещения, которые он
совершал. Я избавлю себя от воспроизведения этих деталей, самое
основное из которых мы сможем вскоре наверстать, и только замечу,
что в конце этого второго сеанса он вел себя так, словно был не в
себе и спутан. Он неоднократно называл меня «господин капитан»,
вероятно, потому, что в начале сеанса я ему сказал, что сам я не
такой жестокий, как капитан М., и не имею намерения его понапрасну
мучить.
Во время этого сеанса я получил от него только еще одно разъяснение:
с самого начала всякий раз, когда у него возникало беспокойство, что
с дорогими ему людьми что-то случится, он переносил это наказание не
только в настоящее, но и в вечность, в потусторонний мир. До 14 или
до 15 лет он был очень набожным, но с тех пор прошел путь развития
до своего нынешнего вольномыслия. Он улаживал противоречие, говоря
себе: «Что ты знаешь о жизни в потустороннем мире? Что знают о ней
другие? Ведь о ней ничего не известно, ты ничем не рискуешь, а
потому делай это». Это умозаключение столь проницательный в
остальных отношениях человек считает безупречным и использует
ненадежность разума в данном вопросе в пользу преодоленного
религиозного мировоззрения.
На третьем сеансе он заканчивает весьма характерную историю своих
попыток исполнить навязчивую клятву. Вечером состоялось последнее
собрание офицеров перед завершением военных учений. Ему выпало
произнести тост от «господ из запаса». Он говорил хорошо, но словно
сомнамбула, ибо на заднем плане его беспрестанно мучила мысль о
своей клятве. Он провел ужасную ночь; аргументы и контраргументы
боролись между собой; главный аргумент, разумеется, состоял в том,
что предпосылка, на которой основывалась его клятва: обер-лейтенант
А. заплатил за него деньги,— была неверной. Но он утешал себя тем,
что еще не все потеряно, поскольку А. проедет верхом вместе с ним
часть пути до железнодорожной станции П. 1*, так что у него еще
будет время попросить его об одолжении. Он этого не сделал, позволил
А. отъехать, но дал своему денщику поручение оповестить его о своем
визите после полудня. Сам он добрался до станции в 9.30 утра, отдал
свой багаж, сделал в небольшом городке всякого рода покупки и
намеревался затем нанести визит А. Деревня, в которой располагался
А., находилась примерно в часе езды от города П. Поездка по железной
дороге к месту [Ц.], где находилась почтовое отделение, заняла бы
три часа; стало быть, думал он, после выполнения своего сложного
плана еще можно было бы попасть в Вену отходящим из П. вечерним
поездом. Мысли, которые боролись между собой, с одной стороны,
гласили: он просто боится, явно хочет избавить себя от неудобства
попросить у А. об этой услуге и предстать перед ним дураком и
поэтому отказывается от своей клятвы; с другой стороны, наоборот
будет трусостью, если он исполнит клятву, поскольку он хочет этим
лишь добиться того, чтобы навязчивые представления оставили его в
покое. Когда входе размышления аргументы уравновешивали друг друга,
он обычно позволял распоряжаться собой случайным событиям, словно
Божьим решениям. Поэтому, когда носильщик на станции его спросил:
«Вы на десятичасовой поезд, господин лейтенант?», он сказал: «Да»,
отъехал в 10 часов и, таким образом, создал fait accompli 2*,
принесший ему огромное облегчение. У проводника вагона-ресторана он
получил талон на право пользования table d'hote". На первой станции
ему вдруг пришла в голову мысль, что он еще может выйти, дождаться
обратного поезда, поехать на нем в П., оттуда в местечко, где
находился обер-лейтенант А., затем вместе с ним предпринять
трехчасовую поездку по железной дороге на почту и т. д. И только
мысль о заказе, который он сделал официанту, удержала его от
осуществления этого замысла; но он не отказался от него, а решил
высадиться на следующей остановке. Так он пропускал станцию за
станцией, пока не доехал до места, где выйти из поезда он счел
невозможным, поскольку там у него были родственники, и решил ехать в
Вену, там разыскать своего друга, рассказать ему о своей проблеме и
после его решения ночным поездом вернуться в П.
*1 [Из оригинальных
записей Фройда (1955а) вытекает, что речь шла о городе Пршемысль.]
*2 [Совершившийся факт (фр.). — Прим. пер.] [Общий стол, табльдот
(фр.). — Прим. пер.]
В ответ на мое сомнение, действительно ли все сходилось, он заверил
меня, что между прибытием одного поезда и отправлением другого у
него было бы полчаса свободного времени. Однако прибыв в Вену, он не
застал своего друга в гостинице, где ожидат его встретить, только в
11 часов вечера попал в квартиру своего друга и уже ночью рассказал
ему о своей проблеме. Друг всплеснул руками от удивления, что тот
может еще сомневаться, не было ли это навязчивым представлением,
успокоил его на эту ночь, благодаря чему тот хорошо выспался, а
утром пошел с ним на почту, чтобы отправить 3,80 кроны на адрес
почтового отделения [Ц.], куда поступила посылка с пенсне.
Последнее сообщение послужило мне отправной точкой, чтобы распутать
искажения в его рассказе. Если он, образумленный другом, отправил
небольшую сумму не обер-лейтенанту А. и не обер-лейтенанту Б., а
прямо на почту, то он обязан был знать и еще при своем отъезде знал,
что за посылку наложенным платежом оставался должным только почтовой
служащей. Оказалось, что он действительно это знал еще до
напоминания капитана и до своей клятвы, ибо теперь он вспомнил, что
за несколько часов до встречи с жестоким капитаном был представлен
другому капитану, который сообщил ему, как все было на самом деле.
Услышав его имя, этот офицер ему сказал, что недавно был на почте, и
почтовая служащая его спросила, не знает ли он лейтенанта Л. (то
есть нашего пациента), которому пришла посылка наложенным платежом.
Офицер ответил, что такого не знает, но девушка сказала, что
доверяет неизвестному лейтенанту и внесет взнос сама. Так наш
пациент стал обладателем заказанного им пенсне. Жестокий капитан
ошибся, когда, вручая ему посылку, попросил вернуть 3,80 кроны А.
Наш пациент должен был знать, что это ошибка. Тем не менее он дал
основанную на этой ошибке клятву, которая принесла ему столько
мучений. При этом он скрыл от себя и при рассказе также и от меня
эпизод с другим капитаном и существование доверчивой почтовой
служащей. Признаюсь, что после этого уточнения его поведение
становится еще более бессмысленным и непонятным, чем прежде.
После того как он покинул своего друга и вернулся в семью, его снова
стали одолевать сомнения. Аргументы его друга ничем не отличались от
его собственных, и он не заблуждался на счет того, что временное
успокоение нужно было объяснить личным влиянием его друга. Решение
посетить врача следующим искусным способом было вплетено в делирий.
Он получит от врача справку о том, что действие, которое он задумал
осуществить с обер-лейтенантом А., необходимо ему для выздоровления,
и эта справка, несомненно, заставит того принять от него 3,80 кроны.
Случай, что именно тогда ему в руки попалась одна моя книга, обратил
его выбор на меня. Но со мной об этой справке речь не зашла, он
весьма разумно попросил лишь о том, чтобы избавить его от навязчивых
представлений. Спустя много месяцев на пике сопротивления у него
однажды снова появилось искушение отправиться в П., разыскать
обер-лейтенанта А. и вместе с ним исполнить комедию возвращения
денег.
Г. Ознакомление с принципами лечения
Не ожидайте вскоре услышать, какие я привел доводы для разъяснения
этих странных и бессмысленных навязчивых представлений (о крысах) —
правильная психоаналитическая техника велит врачу подавить свое
любопытство и предоставить пациенту свободно распоряжаться
очередностью тем в работе. Поэтому на четвертом сеансе я встретил
пациента вопросом: «Как вы теперь продолжите?»
«Я решил рассказать вам о том, что я считаю очень важным и что меня
с самого начала мучает». Он очень подробно рассказывает мне историю
болезни своего отца, который девять лет назад умер от эмфиземы.
Однажды вечером, полагая, что его состояние критическое, он спросил
врача, когда можно будет считать, что опасность миновала. Ответ
гласил: «Послезавтра вечером». Ему не приходило в голову, что отец
мог не дожить до этого срока. В полдвенадцатого ночи он на один час
прилег, а когда в час ночи проснулся, узнал от приятеля, врача по
профессии, что отец умер. Он упрекал себя за то, что не
присутствовал при смерти отца, и эти упреки усилились, когда сиделка
сообщила, что отец в последние дни однажды назвал его имя, а когда
она к нему подошла, спросил: «Вы Пауль?» Ему казалось, что мать и
сестры склонны точно так же себя упрекать, но они об этом не
говорили. Тем не менее этот упрек вначале не был мучительным, долгое
время он не сознавал факт смерти отца; снова и снова с ним случалось
так, что, когда он слышал хорошую остроту, он себе говорил: «Надо
рассказать это отцу». Также и его фантазия была занята отцом,
поэтому часто, когда раздавался стук в дверь, он думал: «Сейчас
войдет отец», а когда входил в комнату, ожидал застать в ней отца, и
хотя он никогда не забывал про факт его смерти, ожидание такого
явления призрака ничуть его не пугало, — наоборот, для него это было
чем-то очень желанным. И только через полтора года пробудилось
воспоминание о своем упущении, которое начало его беспрестанно мучить, и поэтому он стал относиться к себе как к
преступнику. Поводом послужила смерть его неродной тети и его визит
в наполненный скорбью дом. С тех пор он распространил свою систему
мыслей на потусторонний мир. Ближайшим следствием этого пароксизма
явилась серьезная потеря трудоспособности 1*. Поскольку он
рассказывает, что его поддерживали тогда только утешения друга,
который всегда отметал эти упреки как непомерно преувеличенные, я
пользуюсь этим поводом, чтобы впервые ознакомить его с предпосылками
психоаналитической терапии. Если имеется мезальянс между содержанием
представления и аффектом, то есть между величиной упрека и поводом
для него, то дилетант сказал бы, что аффект чрезмерен для повода, то
есть преувеличен, стало быть, выведенное из упрека заключение, что
пациент — преступник, является ложным. Врач, напротив, скажет: «Нет,
аффект оправдан, сознание вины нельзя дальше критиковать, но оно
относится к другому содержанию, которое неизвестно (бессознательно)
и которое сначала требуется отыскать. Известное содержание
представления попало сюда лишь благодаря ошибочному соединению. Но
мы не привыкли ощущать в себе сильные аффекты без содержания
представления, а потому при отсутствии содержания в качестве
суррогата принимаем какое-нибудь подходящее другое, как, скажем,
наша полиция, которая, если не может поймать настоящего убийцу,
арестовывает вместо него кого-нибудь невиновного. Фактом ошибочного
соединения объясняется также бессилие логической работы в борьбе с
мучительным представлением». В заключение я признаюсь, что из этого
нового понимания прежде всего возникают непростые загадки, ибо как
он должен обосновать свой упрек, что по отношению к отцу он
преступник, если все-таки знает, что в сущности никогда чего-либо
преступного против него не совершал.
Затем на следующем сеансе он проявляет большой интерес к моим
объяснениям, но позволяет себе выразить некоторое сомнение: «Разве
может иметь целебное действие сообщение о том, что упрек, сознание
вины обоснованы?» — «Нет, действует не это сообщение, а нахождение
неизвестного содержания, к которому относится упрек». — «Да,
именно с этим я и связываю свой вопрос». — Я вкратце объясняю мои
сведения о психологических различиях между бессознательным и
сознательным, об изнашивании, которому подвергается все сознательное,
тогда как бессознательное остается относительно неизменным, указав
на выставленные в моей комнате антикварные вещи.
*1 Понимание этого воздействия появляется позднее из более детального описания повода. Овдовевший дядя, сокрушаясь, воскликнул: «Другие мужчины позволяют себе все на свете, а я жил только для этой женщины!» Наш пациент воспринял это так, что дядя намекает на отца и подозревает его в супружеской неверности, и хотя дядя самым решительным образом оспаривал подобное истолкование его слов, устранить их воздействие.
«Это, собственно говоря, лишь погребения; то, что они оказались
засыпанными, как раз их и сохранило. Помпею разрушили только теперь,
после того как ее обнаружили». — «Есть ли гарантия того, — задает он
следующий вопрос, — как человек отнесется к найденному?» Один, как
он думает, поведет себя так, что, наверное, преодолеет упрек, а
другой — не преодолеет. — «Нет, в самой природе вещей заложено то,
что аффект в любом случае преодолевается, чаще всего уже во время
работы. Помпею-то то как раз пытаются спасти, а от таких мучительных
мыслей хотят избавиться». — Он считает, что упрек может возникнуть
лишь при нарушении собственных нравственных законов, но не внешних.
(Я подтверждаю: кто просто нарушает внешний закон, тот нередко
чувствует себя даже героем.) Стало быть, такой процесс возможен
только при распаде личности, который имелся с самого начала. Обретет
ли он снова целостность личности? В этом случае он отважится многое
совершить, возможно, больше, чем другие. — В ответ я сказал, что
полностью согласен с ним по поводу расщепления личности; ему только
нужно соединить это новое противопоставление между нравственным
человеком и порочным с прежним противопоставлением — между
сознательным и бессознательным. Нравственный человек — это
сознательное, порочное — бессознательное 1*.
— Он может вспомнить, что он, хотя и считает себя нравственным
человеком, в своем детстве совершенно определенно делал вещи,
которые исходили будто от другого человека. — Я думаю, что он между
делом раскрыл основную характеристику бессознательного — его связь с
инфантильным. Бессознательное и есть инфантильное, а именно та часть
личности, которая в свое время от нее отделилась, не участвовала в
дальнейшем развитии и поэтому была вытеснена. Потомки этого
вытесненного бессознательного являются элементами, поддерживающими
непроизвольное мышление, в котором и состоит его недуг. Теперь он
может открыть еще одну характеристику бессознательного, я охотно
готов это ему уступить. — Ничего другого он непосредственно не находит, но зато высказывает сомнение, можно ли устранить так
долго существующие изменения. Что, в частности, можно сделать с его
идеей о потустороннем мире, которую все же не удается опровергнуть
логически?
*1 Хотя все это верно лишь в самых общих чертах, на первых порах для ознакомления этого достаточно.
—
Я не оспариваю тяжесть его заболевания и значение его построений, но
его возраст очень благоприятен, благоприятно и то, что его личность
сохранна, при этом я высказываю о нем уважительное суждение, которое
его явно радует.
Следующий сеанс он начинает словами, что должен поведать о неких
фактических событиях из своего детства. С семи лет, как он уже
говорил, он боялся, что родители догадываются о его мыслях, и, в
сущности, этот страх сохранялся у него всю последующую жизнь. В
двенадцать лет он полюбил маленькую девочку, сестру своего друга (в
ответ на мой вопрос: не чувственно, он не хотел видеть ее обнаженной,
она была слишком маленькой), которая, однако, не была с ним столь
нежной, как ему бы того хотелось. И тут ему пришла мысль, что она
будет с ним ласковой, если его постигнет несчастье; в качестве
такового невольно возникла мысль о смерти отца. Он тут же энергично
отверг эту идею, он и сейчас защищается от возможности того, что мог
таким образом выразить некое «желание». Это была разве что «мыслительная
связь» 1*. — Я возражаю: «Если это не было желанием, отчего такое
сопротивление?» — «Только из-за содержания представления, что отец
может умереть». Я: он произносит эти слова так, словно они
оскорбляют величество; при этом, как известно, того, кто скажет: «Император
— осел», точно так же накажут и в том случае, если он облачит эту
предосудительную мысль в слова: «Если кто-нибудь скажет... то он
будет иметь дело со мной». Для содержания представления, которое он
так отвергал, я мог бы сразу найти взаимосвязь, которая исключила бы
это сопротивление, к примеру: «Если мой отец умрет, я" убью себя на
его могиле». — Он потрясен, но не отказывается от своего возражения,
поэтому я прерываю спор замечанием, что идея о смерти отца все же
возникла здесь не впервые; очевидно, она происходит из более раннего
времени, и когда-нибудь мы должны будем проследить ее возникновение.
— Далее он рассказывает, что во второй раз точно такая же мысль,
словно молния, промелькнула у него за полгода до смерти отца. Он уже был влюблен в ту даму (Десять лет
назад!), но из-за материальных трудностей не
мог помышлять о соединении с ней.
*1 Такими словесными послаблениями
И тут у него появилась мысль: «Когда отец умрет, я, пожалуй, настолько разбогатею, что смогу жениться». В своей защите он зашел тогда так далеко, что пожелал, чтобы отец вообще ничего не оставил и тем самым не было выгоды, которая компенсировала бы эту ужасную для него потерю. В третий раз та же самая мысль, но очень смягченная, у него появилась за день до смерти отца. Он подумал: «Сейчас я могу потерять самого любимого для меня человека», и тут же возникло возражение: «Нет, есть еще один человек, утрата которого была бы для тебя еще болезненней»2. Он очень удивлен этим мыслям, поскольку совершенно уверен, что смерть отца никогда не могла быть предметом его желания, она была только предметом его опасений. — После этих слов, произнесенных со всей убедительностью, я считаю целесообразным изложить ему новую частицу теории. Теория утверждает, что такая тревога соответствует прежнему, ныне вытесненному желанию, а потому следует предположить нечто прямо противоположное его заверению. Это также согласуется с требованием рассматривать бессознательное как контрадикторную противоположность сознательного. — Он очень взволнован, очень недоверчив и удивляется, как у него могло возникнуть это желание, ведь отец был для него самым любимым человеком на свете. Не подлежит сомнению, что он отказался бы от любого личного счастья, если бы этим мог спасти жизнь отца. — Я отвечаю, что именно такая сильная любовь является условием вытесненной ненависти. В отношении безразличных ему людей он наверняка легко может находить мотивы для умеренной симпатии и такой же антипатии, если, скажем, является служащим и рассуждает о своем начальнике, что тот приятный руководитель, но придирчивый юрист и бесчеловечный судья. Ведь то же самое говорит Брут о Цезаре у Шекспира ([«Юлий Цезарь»] III, 2*): «Цезарь любил меня, и я его оплакиваю; он был удачлив, и я радовался этому; за доблести я чтил его; но он был властолюбив, и я убил его». И эти слова уже кажутся необычными, потому что мы сильнее представили себе чувства Брута к Цезарю. Если бы речь шла о человеке, который ему более близок, скажем, о его жене, он стремился бы иметь целостное ощущение и поэтому, как это присуще всем людям, пренебрегал бы ее недостатками, способными вызвать у него неприязнь, не замечал бы их, словно слепой.
*2 Здесь явно дает о себе знать противопоставление двух любимых людей, отца и «дамы».
Стало быть, именно большая любовь не допускает, чтобы ненависть (если карикатурно ее так обозначить), которая, пожалуй, должна иметь некий источник, оставалась сознательной. Проблема, однако, заключается в том, откуда происходит эта ненависть -— его высказывания указывали на период времени, когда он боялся, что родители догадываются о его мыслях. С другой стороны, можно было бы также спросить, почему большая любовь не смогла погасить ненависть, как это обычно бывает при столкновении противоположных импульсов. Можно только предположить, что ненависть связана с неким источником, неким поводом, что и делает ее несокрушимой. Стало быть, с одной стороны, такая взаимосвязь защищает ненависть к отцу от разрушения, с другой стороны, большая любовь препятствует ее сознанию, поэтому ей ничего не остается, как существовать в бессознательном, откуда в отдельные моменты она все-таки может на мгновение протискиваться вперед.
Он признает, что все это звучит вполне убедительно, но, разумеется, он нисколько не убежден 1*. Ему хочется задать один вопрос: как получается, что такая идея может делать паузы — в двенадцать лет появляется на какой-то момент, затем в двадцать лет снова, а через два года опять, чтобы с тех пор закрепиться. Он все же не может поверить, чтобы враждебность тем временем исчезала, и вместе с тем в этих паузах не было ничего от упреков. Я в ответ: «Когда кто-нибудь задает вопрос таким образом, у него уже готов и ответ. Ему нужно лишь дать договорить». Он продолжает, внешне несколько отклоняясь от темы: он был лучшим другом отцу, а отец — ему; за исключением нескольких областей, в которых отец и сын обычно друг друга избегают (что он имеет в виду?), между ними была большая близость, чем теперь у него со своим лучшим другом. Ту даму, ради которой он пренебрег в мыслях отцом, он хотя и любил, но, собственно говоря, по отношению к ней у него никогда не возбуждались чувственные желания, которыми было наполнено его детство;
*1 Цель подобных дискуссий никогда не
заключается в том, чтобы убедить. Они только должны ввести
вытесненные комплексы в сознание, завязать спор по их поводу на
почве сознательной душевной деятельности и облегчить появление
нового материала из бессознательного. Убеждение возникает только
после переработки больным заново полученного материала, и покуда оно
является шатким, материал нельзя расценивать как исчерпанный.
и
вообще в детстве его чувственные побуждения были намного сильнее,
чем в пубертатном возрасте. — Я полагаю, что теперь он дал ответ,
которого мы ждали, и одновременно обнаружил третью важную
особенность бессознательного. Источник, из которого враждебность к
отцу черпает свою несокрушимость, очевидно, имеет природу
чувственных вожделений, при этом он воспринимал отца в некотором
смысле как помеху. Такой конфликт между чувственностью и детской
любовью совершенно типичен. Паузы возникали у него потому, что
вследствие преждевременного взрыва его чувственности затем произошло
ее значительное ослабление. Лишь после того как у него снова
возникли интенсивные чувства влюбленности, в аналогичных ситуациях у
него опять стала появляться эта враждебность. Впрочем, я заручаюсь
его подтверждением, что не я вывел его на сексуальную и на
инфантильную тему, — он самостоятельно пришел к ним обеим. — Дальше
он спрашивает, почему в период влюбленности в даму он не вынес
решения, что помеха этой любви со стороны отца не должна влиять на
его любовь к нему. Я ответил: «Вряд ли можно кого-то убить in
absentia [В отсутствие (лат.). — Прим. пер.]
. Чтобы сделать возможным такое решение, оспариваемое желание должно
было бы возникнуть тогда у него впервые; но это было давно
вытесненное желание, по отношению к которому он не мог вести себя
иначе, чем прежде, и которое поэтому избегало уничтожения. Желание (устранить
отца как помеху), видимо, возникло в те времена, когда
обстоятельства были совершенно иными; скажем, тогда он любил отца не
сильнее, чем человека, к которому испытывал чувственное вожделение,
или он не был способен принять четкое решение, то есть в очень
раннем детстве, до шести лет, и оно сохранилось таковым на все
времена». — На этой конструкции объяснение временно заканчивается.
На следующем, седьмом, сеансе он продолжает эту же тему. Он не может
поверить, что имел такое желание в отношении отца. Он вспоминает
новеллу Зудерманна [«Брат и сестра»], произведшую на него глубокое
впечатление, в которой женщина, сидящая возле постели больной сестры,
желает ей смерти, чтобы выйти замуж за ее мужа. Затем она себя
убивает, потому что после такой низости не заслуживает того, чтобы жить. Он это понимает, и ему будет поделом,
если он погибнет от своих мыслей, ибо ничего другого он не
заслуживает 1*. Я замечаю: нам хорошо известно, что больным их недуг
доставляет некоторое удовлетворение, а потому все они, в сущности,
отчасти противятся выздоровлению. Ему нельзя упускать из виду, что
лечение, подобное нашему, происходит при постоянном сопротивлении; я
снова и снова буду ему об этом напоминать.
Он хочет теперь рассказать о преступном поступке, в котором себе не
признается, но который совершенно определенно помнит. Он цитирует
слова Ницше:« "Я это сделал ", — говорит моя память. "Ты не мог
этого сделать", — говорит моя гордость и остается непреклонной. В
конце концов память уступает» 2*. «Тут, стало быть, моя память не
уступила». — «Именно потому, что, наказывая себя, вы извлекаете
удовольствие из своих упреков». — «С моим младшим братом — сейчас я
действительно к нему хорошо отношусь, хотя он доставляет мне большое
беспокойство, собираясь заключить брак, который я считаю нелепостью;
у меня даже уже была идея поехать туда и убить эту персону, чтобы он
не мог на ней жениться, — так вот, с братом в детстве я часто
дрался. Вместе с тем мы очень любили друг друга и были неразлучны,
но мною владела ревность, ибо он был сильнее и красивее, а потому
любимее». — «Да, вы уже рассказывали о такой сцене ревности с
фройляйн Линой». — «Итак, после одного такого повода — мне точно не
было тогда восьми лет, ибо я еще не учился в школе, в которую стал
ходить с восьми - я сделал следующее. У нас были игрушечные ружья
определенной конструкции; я зарядил свое шомполом, сказал ему, что,
если он будет смотреть в ствол, то что-то увидит, и пока он смотрел,
я спустил курок. Его ударило в лоб, и с ним ничего не случилось, но
моим желанием было сделать ему очень больно. После этого я был
совершенно не в себе, бросился на пол и себя спрашивал: "Как я
только мог такое сделать?" — Но я это сделал». - Я воспользовался
поводом, чтобы настоять на своем.
*1 Это сознание своей виновности самым явным образом противоречит его первоначальному: «Нет, я никогда не желал отцу ничего дурного». Часто встречающимся типом реакции на вытесненное, которое стало известным, является то, что за первым отрицающим «нет» тотчас следует вначале косвенное подтверждение.
*2 «По ту сторону добра и зла».
Если он сохранил воспоминание о столь чуждом для
себя поступке, то он не может отрицать возможность того, что в еще
более раннем возрасте произошло нечто подобное, связанное с его
отцом, о чем он сегодня уже не помнит. — Он знает о других импульсах
мстительности в отношении той дамы, которую он так почитает и чей
характер он описывает с таким восхищением. Наверное, ей нелегко
полюбить, она хранит всю себя для того, кому однажды будет
принадлежать; его она не любит. Когда он убедился в этом, у него
сформировалась сознательная фантазия о том, как он разбогатеет,
женится на другой, а потом нанесет даме визит вместе с женой, чтобы
сделать ей больно. Но тут фантазия ему отказала, ибо ему пришлось
признаться себе, что к другой женщине, жене, он совершенно
равнодушен, его мысли спутались и в конце ему стало ясно, что эта
другая женщина должна умереть. В этой фантазии, так же как и в
диверсии против брата, он видит проявление малодушия, которое его
так ужасает 1*. — В дальнейшей нашей беседе я выставляю как довод,
что он по логике вещей должен объявить себя совершенно не
ответственным за все эти черты характера, ибо все эти
предосудительные побуждения происходили из детской жизни,
соответствуют производным детского характера, продолжающим жить в
бессознательном, а он все-таки знает, что нравственная
ответственность не может относиться к ребенку. Из суммы задатков
ребенка нравственный человек появляется только в процессе развития
2*. Но он выражает сомнение, что все его дурные побуждения имеют это
происхождение. Я обещаю ему это доказать в ходе лечения.
Он добавляет, что после смерти отца болезнь чрезвычайно усилилась, и
я признаю его правоту, поскольку считаю печаль из-за смерти отца
главным источником интенсивности болезни. Печаль словно нашла
патологическое выражение в болезни. Если обычная печаль длится от
одного до двух лет, то патологическая, как у него, в своей
продолжительности не ограничена.
Вот и все, что я могу подробно и последовательно сообщить об истории
болезни. Это примерно совпадает с изложением продолжающегося более
одиннадцати месяцев лечения.
*1 Что в дальнейшем должно найти свое объяснение.
*2 Я привожу эти
аргументы лишь для того, чтобы снова еще раз удостовериться,
насколько они бессильны. Я недоумеваю, когда другие психотерапевты
сообщают, что они успешно борются с неврозами с помощью такого
оружия.
Другие случаи из практики З. Фройда:
Фрагмент анализа истерии (Дора)
Человек-крыса Rattenmann
раздел "Случаи"