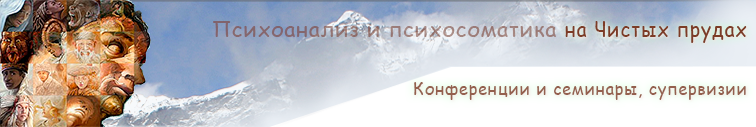Р. Д. Хиншелвуд. "Британская кляйнианская техника"
Я предлагаю вкратце остановиться лишь на трех особенностях современной британской кляйнианской техники анализа — как я ее понимаю.
1. Процесс
Воззрения Мелани Кляйн на аналитический процесс были весьма специфическими. С самого начала ее деятельности Кляйн заботили уровни тревоги, которую она обнаруживала у своих пациентов-детей. В ее подходе этому аффективному уровню уделялось повышенное внимание. Если удается сделать интерпретацию, которая прослеживает тревогу вплоть до самых ранних стадий, заявляла Кляйн, тревога модифицируется. И эта модификация для аналитика ощутима. В своей книге «Психоанализ детей», вышедшей в 1932-м году (Klein, 1932), Кляйн дает много тому примеров .
Аффект в материале ? Интерпретация ? Изменение аффекта
Ее интерпретация указывала на деятельность фигур, вызывающих аффект, особенно тревогу; в качестве реакции она старалась уловить изменение качества тревоги. Зачастую степень торможения в игре она полагала индикатором тревоги.
2. Аналитическая связь
Вторая особенность кляйнианского анализа заключается во внимании к тому, как пациент устанавливает связь со своим объектом, аналитиком. В середине двадцатого века многие аналитики стали пересматривать свои взгляды на природу контрпереноса и его возможное использование. Наиболее красноречиво это выразила Паула Хайманн, в то время — последовательница Кляйн. Для кляйнианцев аналитик стал объектом особого типа — так же, как игрушки были особенными объектами для детей–пациентов Кляйн. В аналитическом сеттинге аналитик оказывается настоящей игрушкой, используемой для выражения объектных отношений чрезвычайно глубокой природы, близко к бессознательной фантазии. Такого рода игра с аналитиком (теперь мы называем ее разыгрыванием) естественным образом воздействует на аналитика. По словам Розенфельда,
«Необходимо установить такой контакт с чувствами и мыслями пациента, чтобы самому чувствовать и переживать, что с ним происходит — это необходимое предусловие психоаналитического лечения» (Rosenfeld, 1987, p. 12).
Фактическое воздействие на аналитика зависит от той роли, которую он берет на себя в бессознательных фантазиях пациента. Подлинная работа аналитика заключается в том, чтобы осознать эту роль. Как сказал Бион, «аналитиком манипулируют, заставляя его играть роль, распознать которую весьма трудно, в бессознательной фантазии другого человека — если не происходит то, что я могу по воспоминаниям назвать лишь временной утратой [аналитиком] инсайта» (Bion, 1952, p. 149). Проблема состоит в том, чтобы подхватить эти бессознательные подсказки. Бетти Джозеф расширила этот принцип, требуя [от аналитика] чувствительности к различным типам материала. Она продвинула интерпретативный подход Кляйн на шаг вперед. Джозеф рекомендует, чтобы мы в оценке материала и отклика на интерпретацию использовали то ощущение, которое мы субъективно переживаем, наряду с такими очевидными объективными признаками, как снятие торможения и символическое содержание материала. Если эти различные аспекты сходятся вместе и указывают на общую бессознательную фантазию, происходит процесс триангуляции:
«Сегодня аналитик считает, что находится на принимающей стороне того запроса, чтобы он разыгрывал некий внутренний объект или некую часть самости пациента. Аналитик принимает эти запросы как конкретные проекции, побуждающие его разыгрывать такие роли. Поэтому от аналитика требуется, чтобы он контейнировал проекции пациента, то есть внутренние объекты пациента или его отщепленные части».
Так что в значительной мере кляйнианская техника во всех случаях настолько же стремится сосредоточиваться на функционировании Эго, насколько и на символическом содержании. Однако здесь мы рассматриваем особую функцию Эго: способ, которым одно Эго соединяется с другим. Принимается за аксиому, что «одно душевное состояние ищет другое душевное состояние, как рот ищет сосок» (Breman-Pick, 1986). Эта врожденная поисковая активность продолжается от рождения до смерти, и является главной в активности как аналитического сеттинга, так и повседневной жизни. Психика аналитика, как только пациент ее обнаруживает, становится для пациента «игрушкой», с которой и внутри которой пациент разыгрывает свои самые острые драмы.
3. Нападения на научение
Когда в 1950-х годах разрабатывались новые взгляды на контрперенос, кляйнианцы также использовали свою технику в анализе пациентов-шизофреников. Идеи Кляйн получили грандиозное развитие. Основное и продуктивное влияние на кляйнианский психоанализ оказало представление об анализе как научении. Начало этому представлению положил Фройд, назвав свою первую большую работу «Толкование сновидений». «Толкование», или «интерпретация» — это поиск значения, обучение новому знанию. Биона интересовал когнитивный дефект шизофреника, проходящего анализ, его неспособность изучать свою реальность. Свои идеи Бион возводил к работе Фройда «Положение о двух принципах психической деятельности» (Freud, 1911), где Фройд ввел понятие «принципа реальности». Бион пришел к выводу, что психоаналитическая связь — это связь научения, и назвал ее «К» — или «К-связь». Под «К» он подразумевал совместную деятельность по производству нового знания о пациенте.
Он противопоставил «К» другим связям, которые могут развиваться в аналитическом сеттинге, и назвал их «L» и «H», тем самым фиксируя реакции любви (loving) и ненависти (hating), которые аналитик и пациент могут испытывать друг к другу. Выражая эту идею в наиболее лаконичной форме, Бион советовал отказаться от памяти и желания (Bion, 1967). Так возникает простая схема, позволяющая распознать, когда мы работаем как аналитики, производя новое знание, знание о пациенте, а когда сдвигаемся к некоему разыгрыванию — вознаграждающему или защитному. Представление о том, что аналитический сеттинг служит научению и ничему более — это кляйнианский вариант Фройдовского правила абстиненции.
Однако Бион не считал, что это просто техническое нерушимое правило, и таким образом он и поздние кляйнианцы развили понятие об абстиненции и о контрпереносе. К-связь не есть нечто, что необходимо установить, и дальше анализ будет продолжаться как процесс научения. Сама К-связь является центром, вокруг которого разыгрывается динамика сеанса. Пациент (и, возможно, аналитик) — может сопротивляться «К». Следуя Биону, сегодня мы признаем, что один из откликов на интерпретацию представляет собой упразднение научения, которое она может запускать.
Джозеф, в частности, предположила, что в трудных неизлечимых случаях происходят нападения на знание и научение. Возможность анализировать символы и смыслы утрачивается, поскольку разрушается сама осмысленность. Это кляйнианская версия понятия негативной терапевтической реакции. Согласно данному подходу, в аналитическом сеттинге врожденная деструктивность человека характерным образом приобретает именно такую форму — нападения на научение и знание. По сути, на каждом аналитическом сеансе мы усматриваем динамику колебаний между образованием К-связи и нападением на нее.
Сосредоточенность на К-связи и отход от нее характеризуют современную кляйнианскую технику. За последние три десятилетия в кляйнианской технике произошел значительный сдвиг.
«[Сегодня] общая тенденция заключается в том, чтобы говорить с пациентом, особенно если он не психотик, меньше на языке анатомических структур (грудь, пенис) и больше на языке психологических функций (видение, слышание, мышление, опорожнение и т.д.)» (Spillius, 1988, p. 9).
Интерпретации обрисовывают, каким образом аналитик втянут в разыгрывание некой роли, что позволяет атаковать функции Эго, или же — роли, помогающей поддерживать эти функции. В этом динамическом процессе внутренние объекты, аналитик и части самости так упорядочиваются в бессознательной фантазии, чтобы поддерживать научение, или же нападение на него. Эти клинические феномены показывают, каким образом организуется Эго пациента, следуя инстинкту жизни, или же над ним захватывает власть организация, служащая инстинкту смерти.
Теперь мы можем рассмотреть фрагмент материала в этих трех ракурсах. Я опишу проблему К-связи, усилия по распознания той роли, которую я играл в фантазиях своего пациента, и процесс интерпретации-отклика.
Клиническая иллюстрация
Этот пациент обратился к анализу в возрасте ощутимо за тридцать со следующей проблемой. Он устанавливал хорошие отношения с женщинами, но каждый раз они обрывались, обычно через два-три года. Внешне это были благополучные отношения. Однако с точки зрения моего пациента, его подруги им пренебрегали, он чувствовал, что они эксплуатировали его, будучи невротичными, и при этом считали, что проблема коренится в нем. Он был твердо убежден в своей способности понимать их и отношения с ними. Иногда он побаивался, что становится несколько параноидным. Он занимался рутинной работой в области газетной индустрии, но был знаком с психоанализом.
В начале анализа, который в конечном итоге оказался успешным, пациент был очень сердитым, и его справедливо можно было бы назвать параноидным. Он постоянно сердился, что я его не понимаю должным образом. Большая часть моих вмешательств вызывала эту жалобу. Очень часто я был вынужден производить вмешательства, которые мало чем отличались от повторения того, что он сказал. В одном случае, например, он сказал, что его отец был чрезвычайно упрямым и властным. Его очевидно травмировала манера его отца выражаться. Я сказал: «Похоже, ваш отец был грубым и властным», — и добавил: «думаю, вы чувствовали себя сильно униженным, когда отец уделял столь мало внимания вашим соображениям». Моя фраза сама по себе выглядела совершенно справедливой. Некоторое время пациент молчал, и мне уже был очень хорошо известен смысл этого молчания — сейчас меня будут сечь за какой-то промах.
Примерно через пять минут пациент высказался. Он полагал, что то, как я произнес свой комментарий, указывает на мой скепсис, на мою убежденность в том, что его отец был не так уж плох. Пациент был уверен, что я имел в виду, что боль была больше связана с его чувствительностью, чем с грубостью отца. То есть я выразил свою точку зрения. Я не выслушал как следует его точку зрения, прежде чем составить свою. Более того, я украл его мысли и представил их как свои собственные, что недопустимо.
В этот момент меня охватили смущение и обескураженность. С одной стороны, я старательно пытался внимательно слушать и сказать не больше, чем было в его сообщении — факты и чувства. Его гнев в ответ на мои усилия казался несправедливым. С другой стороны, его жалобы затронули одну возможность, к которой я иногда отношусь болезненно. Другие аналитики иногда критикуют кляйнианцев за то, что они дают глубокие, проникающие интерпретации, которые оставляют у пациента чувство вторжения. Эта критика пришла мне на ум, и я был вынужден задуматься, не предпринял ли я психологическое вторжение и насилие. В то же время я понимал, что, похоже, меня критикуют в точности за то, что делал отец пациента по отношению к нему. Я терялся в догадках, что это — перенос властной родительской фигуры или же я действительно совершил вторжение? Или верно и то, и другое?
Несколькими неделями ранее у пациента было воспоминание о себе в том возрасте, когда он еще только начинал ходить: его купает отец, тоже обнаженный, и прижимает к себе довольно чувственным образом. Я подумал о гомосексуальном страхе пациента передо мной. Однако я решил, что он передает некоторое ощущение насилия не настолько связное, как либидинозная гомосексуальная фантазия. Казалось скорее, что под угрозой находится само его ощущение бытия, а не просто сексуальная ориентация. Когда эти мысли промелькнули в моей голове — наверное, не в такой отчетливой форме, какую они приобрели на бумаге, — я сказал: «Вы злитесь на меня не за то, что я плохо слушаю и слишком занят своими собственными мыслями. Вы ощущаете не просто непонимание, но разрушение всего вашего чувства существования, угрозу вашему ощущению себя личностью».
Однако здесь я совершил ошибку, поскольку, с его точки зрения, я просто выстраивал собственную версию происходящего, исходя из собственных соображений. «Нет, — сказал он, — это не так». Он начал возражать по поводу того, что он на самом деле пытался сказать. «Я говорил, что мой отец был властным, он просто рассказывал, все рассказывал и рассказывал, как он собирается распределить свои деньги среди своих детей…» Скоро сеанс закончился, и пациент пулей вылетел из комнаты. На мой взгляд, я говорил более-менее то же, что он повторил. Он передавал необходимость не столько исправить смысл сказанного, сколько отстоять отчаянный контроль надо мной.
По прошествии примерно года анализа он воспринимал все мои слова и действия с упорной антипатией. Большая часть материала была посвящена его попыткам научить меня, как понимать его правильно; и в более широком смысле я вообще нуждался в его помощи, чтобы научиться лучше понимать своих пациентов. Я все время чувствовал, что мало что могу, кроме как просто признавать то, что говорил он, и у меня нет простора действий, возможности что-либо с этим сделать. Урезая свои вмешательства до тщетных попыток с ним согласиться, я пытался заложить основание для диалога с ним, что отличалось от интерпретирования и нахождения нового знания об этом пациенте.
В сущности, я стремился изменить ту роль, которую он мне предоставил, а не довести ее до сознания. Я упорно продолжал разузнавать, а он крайне настороженно следил за моей психикой, поскольку ее боялся. Он интерпретировал меня, а не слушал, и я изо всех сил старался избежать вторжения и той властной уверенности в собственных идеях, которая его так бесила. Если использовать упомянутые выше термины, понятно, что я стремился к L-отношению, а К на время было отложено. С помощью этого различения между L-связью и К-связью я смог увидеть маршрут, который избрал — по направлению к L, — и потому смог увидеть маршрут, которым должен был следовать. То есть говорить о страхе пациента передо мной, моей вторгающейся психикой и об уязвимости и беспомощности пациента перед нею. Затем для меня стало возможным постепенно, понемногу сформулировать ту роль, которую я играл в его бессознательной фантазии. В сущности, я был некой копией властного отца моего пациента, который захватил его душу. Это было нелегко, поскольку я не воспринимал себя в таком качестве, хотя признавал отца такого типа — фигуру, которая в некотором отношении была общей для нас с пациентом. Моя работа заключалась в том, что бы превратить переживание такого внутреннего объекта в годное к употреблению знание.
Пока что излагался клинический материал, призванный продемонстрировать мое представление о К-связи и о том, как легко с нее соскользнуть. Также этот материал передает усилия по распознанию того, что я играю некую роль в бессознательной фантазии пациента. Теперь же я хочу описать фрагмент материала, возникший через пару сеансов, который иллюстрирует третий мой тезис — о процессе интерпретирования.
На вторничном сеансе пациент говорил о своей подруге, Маргарет, с которой они жили вместе. Она стала на место его отца как объекта, на который он жаловался более всего — если не считать меня. Однако жалобы остались теми же самыми. Она постоянно от него что-то требовала, так что он чувствовал, что у него не остается собственного пространства. Она казалась столь же властной, как и отец, и столь же поглощенной собственными мыслями и желаниями. Более того, подобно мне, она сопротивлялась всем его попыткам рассказать ей, как она ведет себя, как вторгается в него, как низводит его к небытию.
Я оказывался в своем обычном безнадежном положении. Если бы я дал интерпретацию переноса и указал бы, что его жалобы на подругу напоминают его жалобы на меня, он бы попросту счел, будто я говорю, что все это связано с его неправильным восприятием нас обоих. Это бы объединило меня с ней в ее близорукой убежденности, что с ней самой все в порядке. С другой стороны, выскажи я более эмпатичный комментарий относительно его страха перед тем, что подруга его захватывает, или даже относительно реалистичности этого страха, он бы подумал, что я захватываю его мысли и присваиваю их, отвергая его проницательное понимание их отношений или роли подруги в создании проблем в этих отношениях.
Все это было очень знакомо, но примерно на середине сеанса мне внезапно пришла в голову свежая мысль. Она касалась матери пациента, которая развелась с его отцом давным-давно, когда пациенту было около десяти лет. Она была очень экспансивным человеком, и также часто его полностью подавляла — по его ощущениям, изничтожала — своими лихорадочными, истерическими восторгами. Однако сейчас, следуя внезапному импульсу, она на целый год удалилась в монастырь, приняв обет молчания. Мой пациент оказался в ситуации, когда он вынужден был как-то поддерживать постоянного партнера своей матери, Рега, который вполне естественно почувствовал себя покинутым, утратив ее на год. То же касалось его брата по матери, Джимми, ее ребенка от Рега, который часто оставался с моим пациентом, отдыхая от матери. Я уже некоторое время знал об этой ситуации, однако новая моя мысль представила мне ее в новом свете. Я подумал о ситуации без матери: сначала о том, как нуждался Рег, а потом и о том, как нуждался Джимми — в том, чтобы их поняли и приняли.
То, что у меня возникли какие-то вопросы, уже само по себе было интересным явлением на данной стадии этого анализа, когда мои независимые мысли подвергались такому террору гнева и страха со стороны пациента. Прошло некоторое время, прежде чем я сформулировал, что хочу сказать.
Пациент сказал мне, что Рег (партнер матери) хотел остаться надолго, якобы из-за работы, но пациент считал, что тот чувствовал себя одиноким. В этот момент я первый раз полноценно подумал, что ощущаю нечто за «паранойей» моего пациента. Я действительно почувствовал это нечто в его эмпатии к Регу — а не просто выводил, как возможное умозаключение. Затем я подумал, что Рег и Джимми представляли собой переживание крайнего одиночества и оставленности, которое мое пациент решительно не допускал у себя. Без сомнения, оно относилось к тому, что его мать покинула семью, когда пациенту было 10 лет. Однако внезапно я понял, что если он это переживал, в нем могло быть что-то, ощущавшееся покинутым мною. И я видел в совершенно буквальном смысле, что удалился в убежище. Я укрылся от его натиска в не-психоаналитической позиции. Возможно, вы подумаете, что я как-то нескоро пришел к этой формулировке — что ж, я соглашусь с вами. Здесь присутствовало столько сосредоточенности на властном отце, что нужда в преданной матери выпала из поля рассмотрения. Разумеется, сосредоточенность на отце, на мой взгляд, была методом отстраниться от чувства покинутости и заброшенности.
Затем я ощутил побуждение компенсировать эту задержку, попытавшись выразить ее словами, но необходимо было также разобраться, почему эта новая мысль посетила меня именно в данный момент. Я понял, что эта мысль возникла, когда пациент произнес: «Джимми позвонил мне прошлой ночью и сказал, что с Регом плохи дела». Тогда я первый раз отметил, что он демонстрирует ощутимую симпатию к Регу, своему, можно сказать, отчиму, которого обычно считал слабым человеком, заслуживающим хаотических отношений с его матерью. Рег, сказал он, перестал следить за собой, и эту обязанность пришлось взять на себя Джимми, которому сейчас 18 лет или около того. Джимми спросил его по телефону, какими сухими завтраками ему следует запастись. Мой пациент говорил о Джимми, своем единоутробном брате, с сильной любовью и сочувствием, и я внезапно уловил ощущение того несчастного состояния покинутости, которое переживали Рег и Джимми. Его передал мой пациент, чья характерная вызывающая поза самозащиты на тот момент испарилась.
Думаю, именно этот момент внезапной симпатии у моего пациента открыл меня для новой мысли. Или, иными словами, в тот момент я больше не исполнял роль угрозы для психической жизни моего пациента, но был приглашен разделить с ним его заботу. Если у него возникли участие и эмпатия к этим двум покинутым душам, то произошло это посредством некоторой идентификации, которую он установил с ними тогда. Моя задача заключалась в том, чтобы попытаться зафиксировать этот момент, чтобы мы могли поразмышлять о чувстве покинутости у моего пациента, заброшенности его собственной нуждающейся самости — аналитиком, который старался избежать вторжений.
«Полагаю, мне нужно поехать к ним, — продолжил он. — Регу необходимо приехать в Лондон и остаться на ночь. Моей подруге, Маргарет, его визиты не нравятся. Ей кажется, это захват нашего дома». Затем он добавил с горечью: «Ее родители и пара сестер были у нас в прошлом месяце. Против этого она не возражает».
Довольно быстро он вернулся к привычному для него конфликту. В данном случае чувствительной к вторжению воспринималась его подруга, что вызывало его раздражение, поскольку это он страдал от ее властных вторжений. Он продолжил, словно информируя меня для моего же блага: «Когда приезжают родители Маргарет, они хотят, чтобы мы о них заботились, возили по Лондону и показывали достопримечательности. Они хотят, чтобы мы им готовили, однако мы оба работаем полный день, так что это затруднительно». Он умолк, и я захотел кое-что сказать — что вижу нуждающуюся сторону тех объектов, которые он мне описал, а не только их свойство вторгаться, захватывая его и его дом. Помня о его обидчивости, я был очень осторожен. Он сменил тему, словно пытаясь рассказать мне все, что произошло значимого со времени вчерашнего сеанса. «Вчера на работе этот другой чувак, о котором я рассказывал, сел на то место, на котором обычно сижу я. Он сказал, что больше его использует, поэтому хочет иметь на него право. Я пытался объяснить, что обычно я там сижу. Но он это игнорировал. Я мог бы пойти к начальнику, но…» Он казался отчаявшимся, уязвимым и сердитым.
Затем я попытался затронуть связь между его гневом и этой уязвимостью. Я сказал: «Думаю, вы хотите сообщить мне, как и своему начальнику, как легко вы начинаете чувствовать себя отодвинутым, но затем вам кажется эта идея безнадежной, поскольку он или я — мы не откликнемся на ту боль, которую вам это причиняет. Думаю, вы обнаружили, что гораздо легче рассердиться, и, возможно, в данном случае сердиться — это способ скрывать, каким уязвимым вы себя чувствуете». Он не откликнулся немедленно, и, исходя из прошлого опыта, я был уверен, что он реагирует на то, что я выразил собственные идеи по поводу его проблемы. Поэтому прежде, чем он заговорил, я добавил: «Прямо сейчас я думаю, что вы разрываетесь между гневом на меня за то, что я навязываю вам свои идеи, с одной стороны, и с другой — более благодарным откликом на мою попытку понять, насколько отодвинутым и уязвимым вы себя чувствуете». Он признал, что сердится. Сквозь зубы он произнес: «Вы правы. Я сержусь». Однако необычной здесь была небольшая отстраненность, словно бы он говорил о себе. Затем он добавил: «Я не хочу соглашаться с вами, что чувствовал себя уязвимым. Но … так и было. Я ничего не мог сделать с тем чуваком». Он замолчал, и я чувствовал, что внутри он кипит из-за данного мной описания его и его конфликта. Но я также подумал, что гораздо более очевидным было его стремление признать, что я его немного понял.
Я попытался передать вам в подробностях некоторые моменты переживаний и то, как они изменяли и развивали ситуацию. Тот момент, когда внезапно я перестал играть знакомую пациенту роль, был особенно ярким — пока все снова не стало на свои места. Но мы открылись достаточно, чтобы нечто усмотреть и начать использовать это как рычаг для понимания ситуации.
Через некоторое время пациент сказал: «Полагаю, я стараюсь избежать уязвимости». В этот момент он принимал от меня идею, словно она была его собственной. Я не задевал его чувство собственности, поскольку полагал, что он может совершить лишь малый шаг на своем пути. Сеанс приблизился к концу, и пациент выглядел застигнутым врасплох. Он вышел словно бы в напряжении, не посмотрев на меня.
На следующий день свой сеанс рано утром он начал с того, что рассказал сон. Он слегка опоздал, привычно помолчал в знакомой холодной манере и затем приступил к рассказу, как обычно, слегка запинаясь. Он пересказывал сновидение с озадаченным видом. В этом сновидении он гулял в местном лесу, где обнаружил школу. По отношению к школе он испытал смешанные чувства.
Он намекнул, что не понял этот сон, но больше ничего не сказал. Пока я ожидал продолжения, мне показалось, что странность сновидения о школе указывает на его желание рассмотреть свои чувства по поводу обучения в учреждении; это предполагает его смешанные чувства по поводу научения от меня как аналитического учреждения. Я понимал, что это моя интерпретация, не его, но поскольку сеанс казался снова застывшим, сказал следующее: «Думаю, вы молчите, поскольку боитесь, что у меня могут быть собственные идеи относительно сна, и возможно, вы чему-то от меня научитесь. Тогда у вас могут возникнуть очень смешанные и негативные чувства, если этот сеанс станет похожим на школу, тогда как вы бы предпочли привычную прогулку в одиночестве».
Я бы мог сказать больше, вспомнить выражение «не видеть леса за деревьями» или указать на «лес» в моей фамилии (wood — Hinshelwood), но счел это излишне провокативным. Пока я говорил, он неудобно сдвинулся, словно бы действительно негативно реагируя на мои идеи. Он вздохнул, словно от скуки, которую сулила борьба со мной, и, пытаясь проявить истинное сотрудничество, рассказал кое-что о своих школьных годах. Он был отдан в чрезвычайно авторитарную школу, где основным методом было заучивание. Это насколько его замучило, что его перевели в другую школу, где учителя поощряли детей самостоятельно добывать знания. Затем он замолчал, словно бы ожидая, когда я что-нибудь скажу. Я чувствовал, что если что-то скажу, то выпячу свои собственные идеи. Это снова было приглашением вернуться к знакомой роли. Однако он позволил взглянуть на его трудности в обучении, и я знал, что это хороший шанс, позволяющий рассчитывать, хоть и не скоро, на новые открытия.
Я пытался показать, какие затруднения возникают при следовании К-связи, самопознанию и открытости познанию извне. В аналитическом сеттинге пациент искал мою душу и находил преследователя. Разумеется, справедливо также, что моя душа искала его и обнаружила раздражающего человека, которого я знал как параноика. Подобное ускользающее ощущение исполнения роли — многозначительный указатель на то, о чем необходимо думать и чему учиться. Ну конечно, оно трудноуловимо! Это было чем-то вроде брака между его внутренним объектом и моим (как, возможно, выразила бы это Бренман-Пик (Brenman-Pick, 1987)). От меня потребовалось обратиться к ресурсам собственного анализа, который я проходил много лет назад. Когда пациент находился в процессе анализирования меня, мне нужно было оставаться укорененным в том, что я действительно знал о себе. Здесь я попытался показать процесс: например, отклик пациента, когда он заговорил о своих школьных годах, подтверждая мою интерпретацию его сна как проблем в научении.
Перевод З. Баблояна, редакция И. Ю. Романова.
Марк Канцер. Коммуникативная функция сновидений
Фред Буш. Объектные отношения и структурная модель
Патрик Кейсмент. Ненависть и контейнирование
Жан-Мишель Порт. Этика и психоанализ
Марилия Айзенштайн. Этические идеи моделей образования
Бетти Джозеф. О переживании психической боли
Бетти Джозеф. Различные типы тревоги и обращение с ними
Раздел "Статьи"