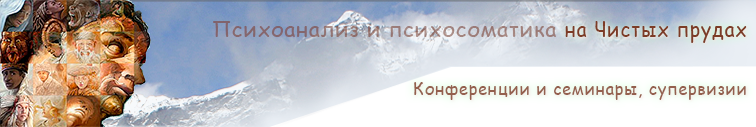Андре Грин Я, смертное-бессмертное*
* - Послесловие к книге «Нарциссизм жизни. Нарциссизм смерти» (1983)
Перевод с фр. и науч. ред. А. И. Коротецкая
Послесловие
Бригитте Понталис посвящается
Это никого не удивляет и не вызывает особых сомнений: в нашем обществе смерть стала чем-то скандальным. Когда нас покидает близкий человек, даже преклонного возраста, мы все выражаем сожаление и иногда даже упрек в адрес тех, которых мы считаем ответственными за его жизнь, что они его не спасли, как будто бы мы привыкли считать длительность жизни неограниченной и ее предел безгранично отсроченным. Такое отношение к смерти появилось относительно недавно. Если и сложно выявить момент, когда оно появилось под воздействием стечения обстоятельств – удлинение мирного периода после двух особо смертоносных войн, улучшение средств, предназначенных для сопротивления природным катастрофам, прогресс в медицине и уменьшение детской смертности, – то ясно, что эта новая эра поднимается не выше мизинца над вершиной горы, настолько столетия, которые прошли, были отмечены присутствием смерти во всех обществах и на всех промежутках истории. Можно также удивляться тому, что эта тенденция не смиряться со смертью или отодвинуть этот исход как можно дальше, сопровождается относительной бессознательностью по поводу накопления средств для разрушения. Если мы не можем говорить о безразличии, следует отметить, что желание противостоять данной угрозе не вызвало всеобщей мобилизации против опасности войны.
В этой парадоксальной ситуации мы сегодня и находимся. Возможно, сегодня мы не в состоянии понять то умонастроение, которое царило менее столетия тому назад, в то время, когда смерть была беспокоящей, но знакомой людям тенью, а религия еще предоставляла нам наивысшее утешение.
Также мы не до конца осознаем значение и вклад идей Фрейда в этом плане. Они обладали смелостью, которая утратила свой блеск, поскольку перемены лишили их своеобразия. В бессознательном не существует представления о смерти – вот что он утверждает с уверенностью очевидца. Человек не может знать, что такое смерть, ни сознательно, ни бессознательно. В бессознательном нет ничего, кроме репрезентаций влечения и аффектов. Чистая позитивность, функцией которой является как раз нахождение ответа на те фрустрации, которые навязывает реальность при реализации наших желаний, заставляя проживать ежедневно опыт этих лишений, больших и малых, в отношении которых смерть является по большому счету лишь максимальной актуализацией. По существу, предложенный религией потусторонний мир, ждущий праведных, добродетельных или раскаявшихся, был обнаружен Фрейдом в бессознательном, и эти миры вполне сравнимы, имея те же пределы и ограничения.
Тем не менее, даже если мы не можем знать, что такое смерть, и представить ее себе, и даже если бессознательное ее не постигает, – в том смысле, что оно не выделяет ей никакого места, – это не означает, что у человека упраздняется сознание того, что он смертен. Мало того что Фрейд боролся с религиозной иллюзией и развенчивал философов, к ней примыкающих, разрушая их чрезмерную веру, ему еще надо было оспаривать подлинное содержание размышлений, вдохновленных таким пониманием смерти. В то время как западная философия, к которой примыкала его культура, на протяжении времени выстраивала дискурс о смерти, возобновляя его бесконечно с точки зрения меняющихся концепций и считая его одним из наиболее благородных завершений человеческой мысли, Фрейд бросает в лицо этим мыслителям смелую идею: размышления философов про страх смерти того, которого называют существом-для-смерти1, являются обманом, маской, за которой человек прячется, чтобы отрицать тот факт, что речь идет лишь о страхе кастрации и ни о чем другом. Таковой была его смелая констатация, которая граничила с дерзостью. Фрейд хотел показать, что требуется гораздо меньше смелости, чтобы утверждать, что человек – это единственное существо животного мира, у которого есть дискурс о смерти и которое осознает свою смертность, нежели признать ограниченность этого знания, иллюзорность тщеславия и – что особенно важно – принять идею того, что настоящим мотором действия, а также мышления людей является то, что ускользает от контроля воли и сознания – бессознательное, оно является невидимым владыкой, который дергает за веревочки марионетку «сознание».
1 Мы расширяем формулу Хайдеггера до философской традиции.
Было ли это провокацией? Для Фрейда не могло быть иначе, так как он лишь доводил до крайности последствия своих взглядов относительно системы бессознательного. Радикализм его идей об отсутствии смерти в бессознательном, в связи с тем что там нет ее репрезентации, обоснован рациональностью, присущей первичному процессу: он не знает ни сомнения, ни степени своей уверенности, он игнорирует отрицание и остается бесчувственным к течению времени и, следовательно, к любой идее о времени. Именно поэтому невозможно постичь в какой-либо форме подобный конец существования, оживленного одной лишь потребностью осуществления желания. Последнее находит в данной области (за неспособностью достичь области реальности) способ удовлетворить себя, удаляя противящиеся этому препятствия, благодаря средствам, позволяющим обходить цензуру. Таким образом, верховенство принципа удовольствия оказывается здесь подтвержденным.
Сознание, рожденное из требований внешней реальности с тем, чтобы обеспечить выживание такого шаткого существа, которым является Я очень маленького ребенка, будет регулироваться принципом реальности, намного более уязвимым, чем принцип удовольствия. В конечном счете последней функцией первого станет защита второго, который безраздельно царит лишь в бессознательном. Одним из его наиболее значимых проявлений оказывается отрицание неудовольствия, связанного с угрозой кастрации. Она (кастрация) вызывает чрезмерный ужас из-за того, что представляет собой наивысшую угрозу исчезновения сексуального удовольствия, являющегося основой и прототипом всех других удовольствий. Неудовольствие, связанное с идеей о смерти, может быть объяснено тем, что она, как и предыдущая, имеет те же последствия. Она несет с собой те же опасности. Положив конец удовольствию жить, она соприкасается, по сути, с утратой удовольствия наслаждаться. Лакан выражается более красноречиво: «Наслаждение, отсутствие которого сделало бы Вселенную тщетной…»
Итак, нарциссическая рана – сказано Фрейдом, – нанесенная человеку из-за оспаривания верховенства его сознания, не только лишила гордости за возможность строить свой дискурс о смерти, она начала разлагаться из-за необходимости знать то, что этот дискурс призван загораживать единственную и уникальную причину его страха: кастрацию.
Мы полагали, что знание о собственной смертности утешит от бремени смерти и даст возможность к ней подготовиться и с ней справиться: «Философствовать – значит учиться умирать». Это не означает смириться или покориться слепой силе, под которой немощно сгибаешься; согласие с собственной временностью поддерживало в человеке идею о том, что смерть обрела в нас достойного противника. Не раба, а свободного человека, желающего быть здравомыслящим. В действительности мы остаемся несведущими не только в отношении смерти, но и в отношении самих себя, кичась благородством, в которое рядилось наше сознание, отворачиваясь от истинного источника наших мыслей. Последние, возвращенные к весьма прозаическим мотивам, были прикованы к поиску удовольствия нашего детства, вечно загороженного страхом, что исчезнет возможность его возобновления. И даже когда нам казалось, что какое-то поведение понесло нас к неудовольствию, то это было не что иное, как последняя хитрость, защитное облачение, в котором строгий анализ быстро обнаруживал, в этой противоположности удовольствия, неизгладимый отпечаток состояния, предшествовавшего неудовольствию: все еще то вечное удовольствие, оно, чьей начальной целью было сексуальное наслаждение, которое является ровесником начала нашей жизни.
Как-то Декарта спросили, есть ли у детей душа. Он дал отрицательный ответ, ссылаясь на их нестабильность, на их лабильный ум, находящийся все время в движении, склонный к игре, то есть неспособный осуществить тот умственный запрос, который должен был делать выводы относительно неустранимости «когито». И только с появлением идей Фрейда, Мелани Кляйн и особенно Винникотта стало ясно, что игра детей является занятием серьезным и несет в себе функцию, столь необходимую и столь расширяющую, что она содержит в себе самую глубокую и самую значимую психическую деятельность, на которую способны взрослые. Потому что игра может быть понята лишь в свете фантазма, а он коренится в сексуальности, чтобы расцвести в сублимации.
Слишком поспешная интерпретация искала бы объяснение страха кастрации в онтогенезе, который так тесно связан у человека с сексуальностью. На самом деле для Фрейда все обстоит совсем иначе. Его работы показывают, что его концепция развития либидо постулирует существование специфического программирования – то есть связанного с видом более, чем с индивидом. Сексуальность как бы оказывается упорядоченной при помощи организующих схем – первоначальные фантазмы соблазнения, кастрация, первосцена и даже те, что касаются Эдипова комплекса, – они придают форму избытку индивидуального опыта, дабы придать ему смысл (направление и значение), осуществляя разбор некоторых событий, инвестируя их специфическим образом и классифицируя их для мышления на манер философских категорий. Мы явно здесь думаем об a priori Канта.
Однако то, что допустимо и даже рекомендовано для философии, плохо вписывается в теорию, нацеленную на научную истину. Ничто на научном уровне не может подкрепить спекуляцию Фрейда относительно того, что названо им «филогенетическими следами памяти», психическим выражением которых на индивидуальном уровне являются первичные фантазмы.
И не было упущено ни одного случая, когда можно было обратить на это его внимание. Он относился к таким возражениям с презрением: возможно, он опережал науку. Он даже отвечал, что ему нет дела до этого призыва к авторитету науки, потому что он был не ученым, а психоаналитиком. Фрейд оказался в условиях странной непоследовательности. Он не переставал требовать для психоанализа статуса научной дисциплины, не допуская других критериев истины, кроме научных. Не надо видеть в его теории некое мировоззрение, одну из тех концепций построения мира, которыми философы пропитали иллюзии людей. И вот как раз по этому поводу он выдвинул спекуляцию сверхнаучного достоинства, прикрываясь профетическим даром, не приводя ни малейшего доказательства того, что он выдвигал. Что же именно питало это непоколебимое убеждение? То, что в глазах других виделось как нечто безрассудное и достойное осуждения, ему казалось наиболее логичным, и он оставался верен себе, что нельзя было обнаружить с первого взгляда.
Не рискуя ошибиться, можно утверждать, что Фрейд видел в сексуальности базис психической жизни, не только из-за того, что у человека она тесно связана с удовольствием, а в особенности потому, что она является такой функцией, которая насквозь пронизывает индивида. Не только оттого, что она отмечает отношения с другими, но также потому, что она переливается через края его существования вверх и вниз по течению, соединяя между собой поколения, так как родственники по восходящей и по нисходящей линии составляют непрерывную цепь. И как раз из-за этого невозможно воспринимать ее в онтогенетической перспективе.
Можно сказать, что «изобретение» сексуальности и смерти оказываются взаимосвязанными. На самом деле, без сексуального различия – при отсутствии «сексизма» – беспрерывно повторяющееся размножение делением одного и того же организма вырисовывает образ бессмертия. Но можно также утверждать, в совсем другом смысле, что, когда умирает индивид, часть его остается живой через то наследие, которое он передает своему потомству. Даже если к этому добавляется и наследие партнера другого пола, нечто лишь от него переходит в новое существо. Следовательно, относительное бессмертие, но все же бессмертие есть, по крайней мере в отрезке одного поколения.
Современная наука позволила женщине вернуться к полному бессмертию. Партеногенез, способный порождать новое существо, полностью идентичное своему родителю, придает непрерывному ряду мать–дочь (поскольку последняя в свою очередь становится матерью другой дочери) бессмертный характер. Все это ценой, безусловно, тех ограничений, к которым приводит чистое повторение того же самого. Таким образом, наше новое время подтверждает превосходство женщины, полностью самодостаточной, которая может любить в своем отпрыске свое собственное изображение. И вот мы уже находимся в направлении связи между нарциссизмом и бессмертием. Но и объектная любовь может здесь также обрести нечто выгодное для себя. Ведь супруг, который отказался бы от радости собственного отцовства, смог бы избавиться от грусти видеть увядание во времени объекта своей любви, если он позволит своей жене радоваться такой репродукции того же, что нашел он когда-то в расцвете ее давно прошедшей молодости. У него также появится огромное удовольствие от возможности узнавания ее во времени, с самого раннего детства, какой она была еще до того, как он ее встретил!
Оставим эти мечтания, приятные или ужасные, и вернемся к Фрейду, который не подозревал, что они могут стать реальными. На его взгляд, сексуальность является той функцией жизни, которая делает относительной силу индивида. Это легко можно заметить с первых же фаз его работ. Его первая теория влечений противопоставляла влечения самосохранения (индивида) сексуальным влечениям, где сохранение вида, если прямо и не ощущается, оказывается все-таки конечной целью. Другими словами, сексуальность покрывает одновременно поле индивидуума и поле вида, тогда как самосохранение касается лишь индивида. Таким образом, сексуальность, удовольствие (угрожающее самосохранению, начиная с этого этапа фрейдистского мышления) и отрицание смерти связаны общей судьбой, которую может выделить только анализ бессознательных процессов.
Однако со всей строгостью мы не можем говорить здесь о бессмертии. Быть лишенным любой репрезентации смерти и чувствовать себя бессмертным являются эквивалентами только на первый взгляд. Отсутствие представителя смерти в бессознательном не является поводом претендовать на бессмертие. Отрицание осознания смерти не относится к ее возможности и уж тем более – к ее неотвратимости. Абсолютное утверждение жизни, в форме осуществления желаний, не знает соперника. Самое большее – оно имеет дело с цензурой и никогда со знанием о смерти. Поэтому ссылка на кастрацию оказывается обоснованной. Она будет материализовываться путем оппозиции «фаллический – кастрированный». Концепция Фрейда построена на фаллоцентризме, это несомненно, так как, по его мнению, сущность любого либидо мужская, у обоих полов. Именно поэтому кастрация затрагивает – правда, по-разному – оба пола, поскольку она угрожает угасанием любой возможности удовольствия, вызывая страх смерти. В анализе забвения имени Синьорелли ассоциации Фрейда приводят его к тому, что он вспоминает слова турков, которые полагают, что без сексуального наслаждения жизнь не имеет смысла. Что ж говорить тогда евнухам?
Понимание идей Фрейда невозможно, если не придавать им метафорическую оценку. Согласно утверждению Лакана, «Великий властитель пенис» (Фрейд) – это знак желания, его телесная, материальная опора. Это фаллическое присутствие, для которого фаллос, по Лакану, будет гарантом символического порядка, заслоняет влагалище, которое, как и смерть, по Фрейду, не может быть представленным. Мы вправе задуматься об избирательности памяти Фрейда, который обнаруживает в трагедии Софокла интуицию Эдипова комплекса, при этом забывая причину того, почему Тиресий, прародитель психоанализа, был кастрирован. Влагалище, испытывающее наслаждение в девять раз сильнее, нежели пенис, не станет означающим ничего, а зависть к вагине – непостижимой. Мы не покончили с этим «отречением от женственности», которое Фрейд считал ответственным за ограничения психоаналитической терапии. Будем довольствоваться на данный момент тем, что подчеркнем трансиндивидуальную функцию сексуальности, но отметим, между прочим, что данная функция воплощается намного более четко у женщины, нежели у мужчины; женщина способна в определенный момент своего существования включать в одно тело два, разделенные отличием поколений, а иногда и отличием полов.
Когда Фрейд изменит свою первую теорию влечений, дабы предпочесть ей другую теорию, теорию о противостоянии между либидо Я и либидо объекта, а сексуальность распределится между первым и вторым, бессмертие останется в его размышлениях, как о том свидетельствует следующая цитата из его работы «О введении понятия нарциссизм» (1914):
«Индивид действительно ведет двойное существование – как самоцель и как звено цепи, которой он служит, вопреки или, во всяком случае, помимо собственной. Даже сексуальность он принимает как одно из своих намерений, тогда как, если смотреть с другой позиции, она представляет собой лишь придаток к своей зародышевой плазме, которому он предоставляет свои силы в награду за удовольствия, будучи смертным носителем, возможно, бессмертной субстанции, подобно тому как старший в роду – лишь временный владелец сохраняющегося и после его смерти имущества. Отделение сексуальных влечений от влечений Я отражало бы только эту двойную функцию индивида».
Эти строки ясно показывают ту опору, которую Фрейд желает найти у Вейсмана, который отстаивал мысль об оппозиции зародышевого вещества и сомы. Лишь сома смертна. Нельзя ли тогда заключить, что между смертностью сомы и наградой удовольствия, полученной взамен осуществления целей зародышевого вещества, включается страх кастрации, связывающий зародышевую плазму и соматическую плазму? Идеи Вейсмана еще послужат Фрейду порукой несколькими годами позже, когда его мышление претерпит тот мутирующий скачок, выраженный в работе «По ту сторону принципа удовольствия» (1920). Спекулятивный характер его размышлений не должен заставить нас поверить в то, что мышление Фрейда приводится в движение само по себе. Потому что несколькими годами ранее, в 1911 году, он предался анализу «Воспоминаний…» президента Шребера, где бред автора указывал одновременно на нарциссическую регрессию через возврат либидо в Я, став мегаломаничным, и на фантазм бессмертия, скрыто присутствующий в фундаментальной теме новой реальности, созданной Шребером. Благодаря своей трансформации в женщину, путем кастрации, он после своего спаривания с Богом породил бы новую расу людей. В этом желании женского наслаждения Фрейд увидел лишь удовлетворение пассивных гомосексуальных желаний по отношению к Отцу, откуда страх кастрации исключен.
Но всего лишь несколькими годами позже, перед написанием работы «По ту сторону принципа удовольствия», анализируя в своей статье «Жуткое» (1919) проблему двойника, которой Ранк посвятил свой знаменитый труд, Фрейд явно вводит понятие бессмертия Я. Этот сдвиг от бессознательного к Я, которое открывает первичное аутентичное психическое выражение бессмертия, меняет его предыдущие перспективы. Анализ мифов и литературных произведений, относящихся к близнецовости, выявляет разделение Я на две части – которые представляют собой близнецов, из которых одна часть является смертной, в то время как другая часто наделена даром бессмертия. Здесь речь идет не о бессмертии сексуальности через биологическое призвание, ни об отсутствии репрезентации смерти в бессознательной психической жизни, но о вере Я, которая может стать и сознательной в виде вымысла. В 1900 году, в ту пору, когда он анализировал истерию, такое нормальное универсальное явление, как сновидение, позволило Фрейду доказать, что бессознательное не является достоянием невроза. В 1919 году доказательство возобновляется на тех же основаниях: бред также не обладает монополией на сознательные выражения бессмертия Я; коллективный или индивидуальный вымыслы, которые люди с удовольствием передают и разделяют между собой, не вызывая подозрения о болезни, – в этом даже обнаруживается религиозное возвышение души –также свидетельствуют о том, что Я – или его часть – большинства смертных считает себя бессмертным.
С этой точки зрения можно действительно говорить о бессмертии, то есть об аутентичном отрицании смерти внутри Я, имеющего понимание своей смертности, но при этом его двойник отказывается допускать фатальность конечности своего существования. Ссылка на сексуальность тем не менее не отвергается. Однако бессмертие зародыша не вписывается нигде в психикe, так же как и то, что смерть не имеет репрезентации в бессознательном. Ответом на биологическую смертность сомы, как и на осознание смерти, является бессмертие части Я. Именно нарциссизм – как результат сексуализации влечений Я – является тому причиной.
Фрейд обнаружил истину, которая ему казалось достойной располагаться среди достижений науки – пустое место смерти в бессознательном. В этом наверняка победа Я, способного проникнуть в секрет большой территории, ускользающей от сознания. И вот он обнаруживает внутри этого прозорливого Я, способного видеть по ту сторону самого себя, сообщника бессознательного, предателя, подрывающего собственные усилия в попытках добиться «большего света».
Здесь нам вновь следует связать спекуляцию Фрейда, рожденную как будто бы из анализа фикции, с тяжелыми разочарованиями клинического опыта. В начале его работы бессознательное и Я находятся в конфликте. Фрейд видел в Я своего самого верного союзника в терапии, потому что в рамках психики его роль – быть представителем отношения к реальности. Сознание до психоанализа переоценивало свою силу, но его значение оказалось менее незначительным, чем считается. Оно грешило по незнанию. Достаточно было, чтобы благодаря аналитику Я «осознало» и опознало настоящие связи между репрезентациями вещи (бессознательные) и репрезентациями слова (предсознательные-сознательные), дабы обрести реальную власть над бессознательным и не только над внешним миром. Можно по праву задаться вопросом, не вернул ли Фрейд в этом часть территории философии, которую отнял у нее ранее. Разве не философия всегда утверждала, что людям не хватает мудрости из-за невежества? Короче говоря, если причины безумия людей можно объяснить их незнанием бессознательного и если метод, предполагающий их от этого освободить, состоит уже не в том, чтобы философствовать, а в том, чтобы интерпретировать, пропасть между двумя дисциплинами, какой бы глубокой она ни казалась, оказывается способной быть заполненной, несмотря на неприязнь Фрейда к философам. Осознание – это как раз работа сознательного существа.
Эта последняя иллюзия, в свою очередь, должна была рухнуть, когда Фрейд сломал себе зубы о некоторые непокорные неврозы, грустной парадигмой которых оказался случай Человека с волками. Вопреки всякому ожиданию интерпретация давних воспоминаний, а именно тех, что касаются «первосцены», не возвращала Я ни одного из своих владений, инвестированных со стороны бессознательного. Рациональное Я, похоже, отказывалось наводить порядок в своем собственном доме, хотя оно как будто бы принимало – не без видимой убежденности – построения психоаналитика. Оно спало с открытыми глазами и оставалось закрытым для всякого понимания… По прошествии лет Фрейду пришлось допустить, против своей воли, что он неудачно оказал доверие этому Я, не поддающемуся обработке. Если остается правдой то, что под страхом угасания Я способно отвечать адекватно на некоторые требования реальности, необходимо признать, что бывший союзник оказался способен скрыть эту половину самого себя – а была лишь половина? – которую он тайно сформировал и где желание быть бессмертным, каким бы безрассудным оно ни казалось, могло обрести убежище и веру. В свете констатирования данного недостатка следует пересмотреть структуру психического аппарата целиком. Именно это оправдает новую концепцию Я во второй топике. Я, как утверждает Фрейд в 1923 году, является по большей части бессознательным. До такой степени, что некоторые из его основных функций, механизмы защиты против страха, оказываются такими же. Они имели смысл своего существования в раннем детстве, используя единственные психические процессы, находящиеся в распоряжении еще слабого Я, пытаясь облегчить груз внутреннего напряжения, которое оно испытывало, прибегая к механизмам, которые меньше заботились о внешней реальности, чем о реальности психической. Во взрослом возрасте они кажутся устаревшими, более инвалидизирующими, нежели продуктивными, по причине их анахронизма. Цепляясь за свои верования прошедшего времени, Я не отказывается от них с легкостью, даже когда они правильно интерпретируются. Оно неохотно соглашается допустить их неадекватность, лишь стиснув зубы, когда оно не настолько слепо к непониманию собственного функционирования, а психоаналитик берет на себя труд показать это посредством переноса.
Вера в бессмертие, следовательно, укоренена в бессознательном Я. Смысл существования данной топографии кроется в сексуализации влечений Я. Незнание смерти в бессознательном нашло свое пристанище в Я. Инстанция Я сознательна, нужда обязывает быть инстанцией, гарантирующей рациональность, и через свое отношение с внешней реальностью она ощущает себя смертной, носит в своих складках двойника, страдающего манией величия, готового напыжиться до такой степени, чтобы затмить второго, иногда ради невинного удовольствия фикции, или – для поддержания веры. Она всплывает на поверхность под ударами психоза. Я является самой двойственностью, а его расщепленная структура участвует в его самом интимном функционировании – замаскированном в нормальности, но с открытым лицом – в болезни. Принятие материальной реальности – значение которой, кстати, не следует минимизировать, – ее неприятие реальностью психической (бессознательной) – такова данная диалектика, которая отвечает за то, что желание бессмертия обретает свой смысл, лишь сосуществуя с осознанием смерти.
Однако из той точки, в которой он находится в 1919 году, Фрейд осмысливает страх смерти как замещение страха кастрации. Бессмертие является для нарциссизма тем же, чем отрицание кастрации – для объектного либидо. Также Фрейд начинает подозревать вероятное влияние других факторов. Он был слишком хорошо осведомлен в развитии психиатрической клиники своего времени, чтобы не заметить тот факт, что синдром Котара, который наблюдался при меланхолии, идеи мании величия при деменциях душевнобольных или в терминальной фазе прогрессивного паралича, не могут быть объяснены одним нарциссизмом. Даже в рамках психоаналитических терапий сопротивление лечению имеет другие объяснения, нежели настойчивость Я в истощении себя ради поддержки отживших защит.
Немногие толкователи идей Фрейда были удивлены той тесной солидарностью, которая связывает последнюю теорию влечений со второй топикой психического аппарата. Оно, Я и Сверх-Я отныне замещают бессознательное, предсознательное и сознательное; последние сведены к тому, чтобы обозначать не более чем психические качества и лишены своей функции в качестве инстанций. В особенности старались подчеркивать отношения между двумя топиками – вторая, как казалось, лишь приступала к перераспределению ценностей первой. На самом деле введение понятия влечения к смерти полностью меняло концепцию функционирования психического аппарата.
Можно оценить это, сравнивая взгляды Фрейда на меланхолию, спустя две написанные им работы. Более давняя «Горе и меланхолия», датированная 1915 годом, выражает концепцию, предшествующую последней теории влечений. Более поздняя, «Я и Оно», появилась спустя три года. В первой меланхолия еще видится под углом зрения либидинальной фиксации, без каких-либо ссылок на влечения к смерти. Конечно, стадия, к которой была привязана меланхолия, орально-каннибалистическая, предполагает разрушительное отношение к объекту; тут задеты оральный садизм и амбивалентность, но все происходит в рамках нарциссического и объектного либидо, без того, чтобы Фрейд принимал во внимание высокий деструктивный потенциал данного недуга, содержащего самый большой в психиатрии риск суицида. В «Я и Оно» меланхолия будет обозначена по-другому: «чистая культура влечения к смерти». Здесь ужасный антагонизм между влечениями к жизни и влечениями к смерти обнажает происходящую в психике битву титанов, а возможно, не только в психике. Работает как раз феномен разъединения влечений. Отсюда опасность кризиса, потому что уменьшение смешивания влечений имеет следствием освобождение влечений смерти от их связи с Эросом, от влечений к жизни. Их высвобождение придает им невероятную разрушительную силу, они более не ограничены гнетом Эроса, которому удавалось их связывать до сих пор, придавая им эротический характер. Это как если бы Эвмениды, покидая свое обиталище вследствие нового матереубийства, вернулись к своему бывшему образу безжалостных эриний, вампиров, требующих кровь за кровь.
Отныне Фрейд не может утверждать, что все страхи смерти оказываются субститутами страха кастрации. То, что могло быть верным в случае неврозов переноса (истерия, фобия и в особенности невроз навязчивых состояний), не является больше таковым в случае неврозов нарциссических, прототипом которых можно считать меланхолию, и уж тем более в случае психозов3.
3 Известно, что Фрейд вначале включил меланхолию и шизофрению в нарциссические неврозы. В 1924 году он решился на то, чтобы ограничить лишь меланхолией данное определение, помещая шизофрению в разряд психозов, собственно говоря.
Анализ меланхолии показывает существование расщепления Я. Одна его часть идентифицируется с утраченным объектом, – именно эта потеря для либидо станет основой разъединения влечений, – в то время как вторая часть Я сохраняет свой статус. Можно предположить, каким образом такой отказ принять смерть объекта может способствовать вследствие размышления развитию фантазма о бессмертии Я.
По поводу кастрации Фрейд говорит о страхе, то есть об опасности, но, рассуждая о нарциссизме горя (и не только об этом), он говорит о нарциссической «ране», то есть имеется в виду не только угроза, а действительное увечье. И также желание при неврозе переноса может пройти в обход через вторичную идентификацию, дабы получить по доверенности награждение, предназначенное кому-то другому. В меланхолии идентификация с потерянным объектом (или с тем, который невозможно потерять) осуществляется первичным образом. Я «принимают» за утраченный объект. Оно само себя осыпает упреками, винит себя за малейшие грешки, придавая им такую серьезность, как если бы они были смертными грехами. Оно себя принижает и требует для себя самого ужасного наказания. Здесь мы имеем дело с притворством.
На самом деле часть Я восстает против другой его части в качестве ее злейшего врага, для того чтобы замаскировать желание измываться над объектом и реализовать в данном продолжении существования, которое представляет собой идентификация, садистские влечения, что были вытеснены в самом отдаленном прошлом. Дело не в самоубийстве, так часто удающемся при меланхолии, которое заслуживало бы оправдания интерпретацией в связи с оральной фазой инфантильной сексуальности. Таким образом, по причине смешения между Я и объектом вторая смерть объекта оказывается совершённой. Соединение с ним, отныне бессмертное, завершено. Блаженство вместе с объектом в бесконечности и неограниченности вновь обретенного рая оральной стадии не будет более знать никакого расставания. Такова концепция, изложенная в работе «Горе и меланхолия».
Когда Фрейд возвращается к проблеме меланхолии в своем труде «Я и Оно», он обновляет ее интерпретацию, тщательно изучая ее в рамках второй топики. Речь уже не о двух половинках одного Я, которые по этому случаю разделяются, чтобы бороться. Расщепление Я – от которого Фрейд тем не менее не откажется, так как его последняя работа называется «Расщепление Я в процессе защиты» (1938), – заменяется конфликтным отношением между Я и той его частью, которая давно уже отделилась: Сверх-Я. Тогда меланхолия представляет собой удручающий спектакль преследования Я тем безжалостным Сверх-Я. Это как Яхве, который карает свой избранный народ, потому что у него несгибаемый затылок, заставляя его заплатить цену этого выбора тем несчастным сознанием, которое у него должен был признать Гегель. На первый взгляд разница между идеями, высказанными в 1915 году и в 1923 году, кажется простым вопросом, касающимся нюансов. На самом же деле новая теория сильно отличается от прошлой. Так как Фрейд не устает повторять, что, в отличие от Я, Сверх-Я имеет своим источником Оно. Другими словами, что мораль, вестником которой оно является, закреплена в глубинах самой дикой инстанции психики, инстанции, которая влияет на оба влечения так, что превращает ее во взрывоопасную смесь, в которой любое ослабление Эроса – происходит ли оно из-за внешнего реального горя или из-за чрезмерного разочарования, которое вызывает изменение в объекте переживаемого во внутренней реальности, – превращает жизненную смесь в бульон летальной культуры. И Фрейд впоследствии вскользь заденет Канта, заметив, что категорический императив далеко не столь незыблемый, как он это утверждает, так как меланхолия в первую очередь, но также и менее серьезные формы мазохизма свидетельствуют о том, что Сверх-Я подвергается изменениям, которые полностью отнимают у него весь трансцедентальный характер.
Через год после написания работы «Я и Оно», в труде «Экономическая проблема мазохизма» (1924) – приложении к эссе 1923 года – Фрейд пойдет еще дальше. Он будет четко делать различие между мазохизмом Сверх-Я, отвечающим за «ресексуализацию» морали, и мазохизмом Я какого-то таинственного происхождения, который еще больше препятствует терапии, чем предыдущий. Так как мазохизм Сверх-Я является выражением связывания влечений смерти; не будем также забывать, что Сверх-Я оказывается в том числе и «Защитной силой судьбы», в связи с чем можно сказать, что оно охраняет индивида, поддерживая главные запреты, предписанные обществом. В то время как мазохизм Я будто бы отражает диффузное пропитывание психического аппарата чрезмерной разрушительностью, распределенной по всем инстанциям, в несвязанном, то есть в не контролируемом состоянии.
Чем больше Фрейд продвигается в своем размышлении, тем более ему открывается Я, неспособное отвечать своим задачам. Как слуге трех господ, Оно, Сверх-Я и реальности, имеющих противоречивые требования, Я необходимо считаться с той незрячестью, которая ослепляет его бессознательную часть, но еще и с той отравой, что подрывает его изнутри: с влечением к смерти. Оно становится гнездом конфликта, который открывается во всей своей полноте лишь при болезни, но которое присутствует у всех. Инстанция Я втиснута между упрямством не покидать свои самые давние либидинальные фиксации, несовместимые с ограничениями, наложенными внешней реальностью – относящейся к физическому, но также и к социальному миру, – и разрушительностью влечений смерти, с центробежной или с центростремительной ориентацией; оно изнуряется в процессе затыкания дыр, заполнения брешей, подпорки стен, идя от одной аварии к другой, чтобы держаться на ногах. Конечно, это пессимистическое видение. Жизнь, настолько, кажется, идет своим путем, что мы, возможно, недостаточно удивляемся тому, что она может быть приятной, как Эйнштейн утверждал, что мы недостаточно удивляемся тому, что Вселенная может быть понятной.
Много было толков о причинах, побудивших Фрейда выдвинуть рискованную гипотезу влечения смерти. Его подозревали в том, что он был задет личными событиями, которые несли ответственность за данную мутацию, украшающую психический аппарат в цвета смерти. Эта точка зрения, так мало верящая в силу жизни, сменила предыдущую, которая превозносила в сексуальности свою укрепляющую мощь, лишь под влиянием старения, которое стало причиной меньшего сопротивления перед испытаниями, налагаемыми судьбой (рак, утрата дочери и внука и т. д.). На самом деле то, что мы знаем относительно биографии Фрейда, заставляет нас скорее думать, что его интерес к смерти восходит к более давним временам. Он присутствуетв момент зарождения психоанализа4. Переписка с Флиссом тому доказательство.
4 Чтобы не сказать ничего о предыдущих годах, насчет которых у нас отсутствуют сведения из первых рук.
Здесь мы открываем Фрейда, который в угоду «теории периодов» своего друга, предается исчислениям относительно предполагаемой даты своей смерти, и это происходит в период, когда его здоровью угрожают сердечные симптомы, не всегда невротические или психосоматические. Было бы правомерным считать, что годы, когда Фрейд связал себя узами дружбы с Флиссом, были отмечены сильной стимуляцией его гомоэротических сексуальных влечений, это подтолкнуло его к мазохистскому подчинению размышлениям этого человека, которого он глубоко уважал. Также следовало бы подчеркнуть тот факт, что эта дружба оказалась окрашенной в тона нарциссической экзальтации отношений в зеркале. И если амбивалентность присутствовала в этих отношениях – так как Фрейд сталкивался с сопротивлением со стороны Флисса в том, чтобы признать его открытия, а со своей стороны он оказался очень поддающимся влиянию взглядам берлинцев, – несомненно, разрыв произошел из-за какого-то прилива, произошедшего в его собственном нарциссизме. Короче говоря, в этой связи с Флиссом Я Фрейда играет в двойную игру. Оно знает, что является смертным, и придает своим достижениям характер бегства от смерти, в то же время либидинизируя страх смерти тем, что он называет своей «неловкостью» (а именно гомосексуальностью). Взамен он желает стать бессмертным – более рационально, в поиске того бессмертия, которое обеспечено его открытиями. И в конце концов он решает предоставить старшинство над другим за счет этой части себя. Достаточно напомнить те фантазмы, что появились при анализе сновидения Ирмы, воображаемую мемориальную доску, увековечивающую его открытия в области сновидений, на которую будут взирать прохожие в будущем.
Известна аналогичная история, которая произошла с другим лицом, старше его по возрасту, Брейером, которому он будет приписывать – из-за чрезмерной своей скромности, которая, возможно, маскировала одновременно его гордость и его чувство виновности – свои собственные находки. И к тому же именно робость соавтора «Этюдов об истерии» – ограничения, которое ему диктовало слишком рациональное Я – стала причиной окончания данного сотрудничества.
Брейер, Флисс… этот ряд должен был завершиться Юнгом, так как Фрейд, слишком задетый разочарованием, нанесенным ему тем, кто на этот раз был младше, решил покончить с ловушками сублимированной гомосексуальности5. Он щадил, насколько мог, этого наследного принца, изображая снисходительного родителя, сталкиваясь с выражениями Эдипова комплекса, достаточно ясного, дабы позволить ему распознать желание отцеубийства у того, кому он хотел передать свою корону. Принц Хал вступил на трон своего отца задолго до того, как тот почил. По прошествии определенного периода гомосексуального подчинения – вспомним об обмороке Фрейда во время одной их встречи – он порвал отношения с сыном, так же как он положил конец своей связи со своими старшими товарищами, которых он бессознательно считал больше своими отцами, нежели равными себе. Фрейд отказался от преждевременной смерти, ведь он уже заботился о своей преемственности и о будущем своих трудов, которые легче были бы приняты от не-еврея, и продолжил завоевание своего бессмертия.
5 Ференци и другие эпигоны, которые позже пожелали занять это место в сердце Фрейда, ошиблись в своих расчетах.
Известно, что среди причин, и не самых маленьких, которые подтолкнули Фрейда отбросить свои гипотезы относительно распределения влечений на либидо Я и на либидо объекта, было то, что он посчитал данную концепцию – выработанную после разрыва с Юнгом – слишком близкой идеям последнего, того, кто предпочел диссидентство для достижения собственного бессмертия. Теория, придающая нарциссизму столь важное место, возможно, стала следствием работы горя, которую следовало закончить, подчеркивая несовместимость теорий Фрейда и Юнга. Безусловно это объясняет тот факт, что последняя теория влечений, представленная в труде «По ту сторону принципа удовольствия», написана семь лет спустя после работы о нарциссизме, к которому Фрейд теряет любой интерес. Нарциссизм был лишь поворотом, остановкой на пути, который должен был привести к цели в 1921 году. Данная цель никогда больше не была пересмотрена, в течение всех восемнадцати лет, что ему еще оставалось прожить. Фрейд настолько повернулся спиной к нарциссизму, что он даже не удосужился объяснить своим ученикам и публике, которую он старался заполучить вне принадлежащих к профессии, каким образом возможно пересмотреть его предыдущие – однако очень убедительные – идеи в свете новых гипотез.
Можно было бы подумать, что начиная с 1920–1921 годов Фрейд осознал, что амбивалентные отношения, которые выражались в последовательных, дружественных связях с Брейером, Флиссом и Юнгом, были лишь экраном. Речь больше шла не о том, что сознательная или предсознательная враждебность, которую они проявляли по отношению к нему, противостояла полному раскрытию его гения, а о том, что его собственная агрессивность была направлена к самому себе. Иначе говоря, у него не было худшего врага, чем он сам.
Однако если объяснять торможение функции синтеза, которая возлагается на Эрос, влечением к смерти, то не следует тем не менее оставлять без внимания те формы, в которых мы наблюдаем связывание Эроса с влечением к смерти: агрессивность, направленная на другого, гомосексуальность и нарциссизм. Бессмертие Я можно также рассматривать через призму, которая разделяет на составляющие, что обнаруживаются при более близком анализе создания двойника, благодаря которому данный фантазм доходит до сознания.
Все это указывает на сложность того, что Ж.-Б. Понталис по праву называл «работой смерти» у Фрейда6. Мы далеки от мысли, что создатель психоанализа столь легко поддался искушению предложить причудливую гипотезу с влечением к смерти, мы окажемся гораздо ближе к истине, если подчеркнем, как долго Фрейд этому противостоял. Стоит лишь подумать о другом диссиденте, а именно Адлере. Последний протянул в сторону Фрейда шест, за который тот не ухватился. Он мог бы поддаться искушению и по-другому сформулировать то, что из-за своей ограниченности не смог сделать его ученик. Наоборот, Фрейд взял время на размышление, откладывая написание работы, которую ему пришлось очень долго вынашивать до того, как черным по белому изложить идеи, представленные им вначале с осторожностью, не требуя признания других. В данной области сомнения были допустимы, в отличие от других концептов, таких как бессознательное, вытеснение, Эдип и трансфер, которые были условиями sine qua non для всех считавших себя психоаналитиком. По мере того как шли годы, с 1921-го по 1939-й, спекуляция должна была стать уверенностью. Для него по крайней мере.
6 Ж.-Б. Понталис. Между сновидением и болью. «Галлимар», 1977.
Влечение к смерти работает в тишине, говорит Фрейд, а вопль Эроса покрывает глухой шум его гибельного воздействия. Тишина, иногда прерванная некоторой тревогой, отпечаток которой остается в написанном. «Тема трех шкатулок» конкретизируется в трех женских лицах: любовница, прародительница, земля, в которой почили тела, покинутые жизнью. Фрейд чувствовал себя близким к старому королю Лиру задолго до своего старения. Бессознательное соучастие связывало его с Брейером, и каждый из них со своей стороны назвал свою спутницу Корделией. Старик, несущий на руках молодую девушку, был лишь обратным образом другой картины, намного более вероятной, смерти, уносящей старика, все еще остающегося ребенком. Мифология преимущественно ассоциирует смерть с женщиной. Если подобную репрезентацию можно оправдать интерпретацией, относящей к страху кастрации, то в недрах коллективного бессознательного с незапамятных времен проводится параллель между смертью и внутриутробной жизнью.
Во многих культурах, особенно в архаические времена, мертвых помещали в могилу в позе зародыша. Самой распространенной идеей в верованиях многих народов – увековеченных монотеистическими религиями – является идея о том, что смерть ведет к воскрешению в другом мире.
Текст статьи «Жуткое» заканчивалась на молчании, которое нам навязывает факт непредставления как смерти, так и влагалища. И человек поражен немотой, сталкиваясь с этим непостижимым. Но, что еще хуже, как можно жить, являясь женщиной, изувеченной репрезентацией части своего тела, сокращенной до зависти к отсутствующему у нее половому органу? Конечно, пенис приметен, тогда как влагалище не видно. И существует ли в этом, как будто вопреки, слишком сильный стимул к репрезентации?
Фаллоцентрическая концепция Фрейда производит значительную чехарду. В том, что касается сексуальности, выражение смыслов придает пенису репрезентабельность, которая учитывает замещение и сгущение, объектом которых он может быть в бессознательном. Однако в том, что касается материнства, Фрейд меняет стратегию. Материнство удостоверяется через чувства7. Но тот же фаллоцентризм, который дает пенису исключительную силу репрезентации, будет играть здесь роль в обратном смысле. В своей работе «Моисей и монотеизм» (1938) Фрейд припишет сомнениям в отцовстве развитие интеллектуальной любознательности, прогресс в духовности, согласно его выражению, состоящий в наделении большей ценностью интеллектуальной дедукции, нежели результатов чувственного познания. Исходя из этого, следовало бы придать женщине большую интеллектуальную проницательность, через дедукцию, которая должна быть вдохновлена скрытым положением ее полового органа. Фрейд отказывает ей в этом. Во имя чего?
7 Кроме трансфера.
Дело в том, что влагалище, эта «древняя родина людей», из которой вышло любое человеческое существо, вызывает знакомую странность или странную фамильярность, до такой степени, что об этом невозможно чтолибо молвить, одним и тем же молчанием покрывается женский пол, что и смерть, превращая женское в квазиестественное состояние, а культура остается занятием мужчин. Миф о женщине, дающей жизнь и смерть, подтолкнул Фрейда к тому, чтобы одновременно идеализировать образ матери, а также видеть в отказе от женственности – у обоих полов – причину настойчивости болезненного состояния. То есть в этом исходящая от матери опасность, общая для обоих полов, – угроза, которую следует отвратить почти столь же сильно, что и угрозу смерти. Является ли это еще одной превратностью страха кастрации? С момента введения влечений смерти мы уже не можем больше на нее ссылаться во всех обстоятельствах.
Постфрейдистский психоанализ, самой значительной фигурой которого является женщина, Мелани Кляйн, смог показать, что идеализация образа матери – это отрицание страха преследования, объектом которого она является. Ссылка на психоз – шизоидно-параноидные и депрессивные позиции – возобновляет разделение, присутствующее в психиатрии со времен Крепелина, современника Фрейда. Она же заменила невроз, который послужил Фрейду для разъяснения страха смерти кастрационной тревогой. Мелани Кляйн, которая должна была поймать Фрейда на слове – и, безусловно, больше чуждым нежели знакомым способом, – считала, что и влагалище, и смерть имеют репрезентацию в бессознательном. Можно было думать, что они там занимают почти все место. Фаллоцентризм Фрейда, которому оставался верным Лакан – «Женщина не есть вся» – оказался развенчанным «маммо(грудь)центризмом» Мелани Кляйн. Задолго до появления вопроса о кастрации ребенок с рождения разделен проблемой хорошей и плохой груди. Еще до того как ребенок, который, конечно, купается в море слов, начинает говорить, «мысли», которые можно у него предположить, вращаются вокруг переживаемого им уничтожения (аннигиляции). Он обязан своим выживанием манихейским механизмам защиты, которые с грехом пополам структурируют весь мир вокруг рая и ада – но второй оставляет больший след, нежели первый – обитателем которых он по очереди был, то безмятежный, то терроризированный. Чем становится в данном контексте бессмертие Я? Следует ли смириться с тем, что обе версии оказываются несовместимыми? Возможно, нет. Подчеркивая уязвимость Я, перегруженного многими последствиями разрушительности, мы лишь делаем более необходимым фантазм его бессмертия.
Мы его обретаем еще на уровне первоначального нарциссизма. Бессмертие – это состояние идеализации Я, существование которого, мы знаем, ставится под угрозу. Неуязвимость, которая ему таким образом придается, является солидарной с состоянием, которое можно охарактеризовать либо как самодостаточную бисексуальность, либо как безразличную асексуальность, или как сексуальную недифференцированность. Я, которое являлось самим нарциссизмом целиком, освобождает место для Я, зависящего от всемогущего первичного объекта. В своих самых обработанных формах выражения раздвоенное Я более не нуждается в комплементарном объекте, принадлежащем другому полу. Нарциссическая законченность больше не является результатом слияния с объектом, сейчас она рождается из того отношения, которое Я поддерживает со своим двойником. Тем же образом, которым можно было бы сказать, что идеалом аутоэротизма являются «губы, сами себя целующие», можно было обнаружить в фантазме бессмертия симметрический идеал Я, который занимается любовью сам с собой либо со своим раздвоенным выражением, не обеспокоенным ни страхом кастрации, ни страхом смерти.
Я не защищает более свою целостность или свое единство желанием бессмертия. Я отрицает свои границы в пространстве и во времени. Оно более не знает конечности бытия или истощения от здесь и сейчас. Серия образов, изображающих бессмертие, идет от первичного слияния молодого Я с объектом к нарциссической инвестиции Я, затем к инвестиции двойника, в когерентном движении развития.
Психотическая угроза начинается с ипохондрии: последняя объясняется блокировкой либидо в части тела, которая живет самостоятельно, выражая самые первые проявления психической фрагментации, которая разорвет Я в клочья, если разовьется психоз. Есть смысл в том, что Фрейд отделил ипохондрию от меланхолии, потому что необходимо больше, чем нарциссическая регрессия, чтобы учитывать то, что, повидимому, относится к разрушению единства Я. И вовсе неслучайно сторонники понятия влечения к смерти оказываются сегодня в рядах «психосоматиков» – по крайней мере те, кто принадлежит к Парижской школе, во главе с П. Марти8.
8 П. Марти, Индивидуальные движения жизни и смерти и Психосоматический порядок.
Концепт влечения к смерти вызвал различные интерпретации – от Гартмана до Лапланша. Что касается первого, то из теории Фрейда он обратил внимание на значение агрессивности и особенно – на приравнивание ее к сексуальности. Но речь лишь о влечениях, обращенных вовне, направление, в котором Фрейд видел лишь вторичное отклонение, то есть отвод наружу наибольшей части первоначальной летальности. Лапланш предпочитал говорить о сексуальных влечениях жизни и о сексуальных влечениях смерти9. Как бы там ни было, мало авторов, которые не признавали бы необходимости придавать силам смерти статус группы влечений. Даже если бы мы отказались от идеи первоначального мазохизма, изменение направления мазохизма в сторону Я и значимость обращения в противоположность (любви в ненависть) являются для Я угрозой достаточно ощутимой, чтобы принудить его создать фантазм бессмертия, особенно когда Я страдает от недостатка нарциссизма.
9 Ж. Лапланш, Жизнь и смерть в психоанализе, изд. Фламмарион.
Радикализм Фрейда подтолкнул его к выражению формулировок, которые могут казаться противоположными его первичным концепциям. Курс жизни, спешащей к смерти, – не место для исчерпания потенциала на грани ресурсов; он является следствием активного смертоносного процесса, захватывающего все больше места с возрастом или по причине биологического оснащения субъекта. Сексуальность оказывается оживляющей лишь при условии, что ее держат в надежном месте. И вот уже из-под пера того, кто так усердно придавал сексуальности заслуженное значение источника жизни, выходят слова о том, что принцип удовольствия действует от имени влечения к смерти! Данная идея, кажется, сильно повлияла на труды Жоржа Батая10. «Экономическая проблема мазохизма» выдвигает на первый план заимствованный у Барбары Лей принцип Нирваны, который действует в пользу влечений смерти, а принцип удовольствия, служащий сексуальным влечениям является лишь измененной формой принципа Нирваны у живых существ. Не нужно прилагать много умственных усилий, чтобы понять – ссылка на Нирвану об этом свидетельствует – что влечение к смерти и бессмертие отсылают друг к другу.
10 Ж. Батай, Эротизм. Минью и (Полночь), 1957.
Мы видим, сколь неравна борьба между Эросом и влечениями смерти, так как они всегда сохраняют за собой последнее слово. Индивид, как напишет Фрейд незадолго до своей кончины, в одной из немногих заметок, которые он оставил, поддается разрушению со стороны своих внутренних конфликтов, в то время как вид погибает из-за своего конфликта с внешним миром. Пройдя сквозь все научные работы Фрейда, его революционное утверждение, которое сводило страх смерти к страху кастрации, сузилось, как шагреневая кожа. Неосознавание смерти превратилось в неосознавание стремления к умиранию. Возможно, следует об этом сказать иначе: горе по материнскому пенису было причислено к более общей категории объектных потерь (частичных или тотальных). Меланхолия, чье-то несчастье, отправляет нас к прототипу горя, которое, вероятно, является причиной данной всеобщей беды, от которой психоанализ отказался начиная с работы «Исследования истерии» (1893–1895). Если вдумчиво прочитать научные труды Фрейда, то есть читать их наоборот, с 1939 года и до истоков, можно с удивлением отметить, что поздний принцип Нирваны – изобретение которого здесь также приписано другому – уже существовал в его голове под названием принципа инерции (невозбудимость неинвестированных систем)11. Психика, которая притворяется мертвой под предлогом не видеть нарушенным свое душевное спокойствие, не стремится ли она безотчетно, постоянно, к этому состоянию?
11 Смотри «Очерк научной психологии» (1895) в работе Рождение психоанализа / пер. А. Германа. П.Ю.Ф., 1956.
Никто не может избежать депрессии, которая связана с самими условиями человеческого существования, она оказывается той ценой, которую мы платим за привязанность к объектам, придающим радость нашей жизни. К счастью, не все мы погибаем из-за этого. У большинства из нас влечения жизни возвращают отказавший нам в определенный момент вкус к жизни. Либидо одерживает верх, оно инвестирует новые объекты или же реинвестирует объекты, причинившие нам разочарование, что послужило поводом для их дезинвестирования. Даже горе по самым дорогим нам существам, которых мы считали незаменимыми, однажды заканчивается. Это тот великий урок, который нам преподают Монтень и Пруст. Забвение служит жизни, при его отсутствии бессмертие стало бы тяжелым бременем. Вытеснение также оказывается сохраняющим. Если горе становится нескончаемым, то безутешную утрату следует относить не к категории любви, а, наоборот, к злобе, рожденной от потери объекта, который не называет своего имени.
К двум порядкам аргументов, питавших размышления Фрейда о смерти – реакции на события, которые его затронули, и резистентности к лечению при негативной терапевтической реакции, приписываемой мазохизму, – добавилось свидетельство социальной жизни: война 1914–1918 годов. Хотя он и поддался националистической страсти – а как бы он смог ей противостоять, имея детей на фронте? – он в этом нашел, без всякого сомнения, еще один стимул для выдвижения гипотезы о влечении к смерти. Людская бойня в той войне, которую назовут мировой, могла бы подтолкнуть к мысли, что данное влечение имело своей первичной целью смерть другого. Это было лишь видимостью. Фрейд воспользовался этим для расширения рамок своей проницательности в работах «Рассуждения о войне и о смерти» и «Наше отношение к смерти»12. Там он отметил безразличие людей к смерти тех, кто не является частью нашего либидинального достояния. Но и в случае последнего, как бы больно ни было, мы в конце концов миримся с тем, что их больше нет среди близких. Так как, несмотря на огромную привязанность, которая нас с ними связывает, они всегда являются лишь гостями, которых мы принимаем внутрь себя. Они остаются, по сути, чужими для нашего самого сокровенного Я, которое переживает их исчезновение. Однако, если смерть продолжает быть непостижимой для нас, возможно, что уход тех, кто был нашим объектом любви, и отнимает у нас идею бессмертия.
12 В работе «Очерки психоанализа», в новом переводе Маленькой Библиотеки Пэйо.
В работе «Тотем и табу» (1913) Фрейд объясняет, что мышление «примитивных» людей стало вдруг верить в бессмертие и это произошло по множественным причинам. Одна из них показывает, насколько объяснимым может быть такое верование. Смерть лиц, инвестированных либидо и интериоризированных в Я, не уничтожает их существование внутри нас. Их следы в нашей памяти поддерживают их жизнь в психике, они вновь появляются в наших снах в форме, которой обладали за много лет до того, как покинули этот мир. Их тело исчезло, а их душа обитает в нашем бессознательном. Если их душа бессмертна, то и наша также. Призраки посещают сон живых и повергают в печаль, даже без нашего ведома. «Тень объекта (то есть его призрак) падает на Я», – читаем мы в работе «Горе и меланхолия». Мы вправе думать, что подобная угроза делает сон невозможным: леди Макбет проживала, бодрствуя, нескончаемый кошмар, прекратившийся лишь с ее смертью. Мертвые напрашиваются в гости, когда хотят в чем-то нас упрекнуть или когда они должны напомнить о каком-то долге.
Короче говоря, мы думали, что уже оплакали наших ушедших дорогих людей, но данная скорбь никогда не была настолько полной, как мы себе это представляли. Души умерших обретают новую жизнь в бессознательном, даже если они более не жаждут крови и щадят наш вкус к жизни. Как тут не вспомнить о тесных связях, которые объединяют траур с состоянием влюбленности? Одно сменяется другим, наподобие обратной стороны или противоположного двойника. Если думать как Фрейд – об этом можно и поспорить, – что любовь обедняет нарциссизм, так как переоценка объекта неразрывно связана с недооценкой Я13, мы способны лучше понять, что когда состояние влюбленности утрачивает пыл или исчезает, Я раздувается от чувства своего собственного значения и вновь дает повод бессмертию существовать. М. Торок14 замечает по праву, что сразу после смерти дорогого нам существа и до начала собственно работы горя Я реагирует на данную утрату посредством короткой эйфории – чаще всего обойденной молчанием, по очевидным причинам, – которая объясняется не только неприятием смерти, но скорее торжествующим удовлетворением Я, оставшегося в живых. Маниакальная скорбь или обращение меланхолии в манию отражают защитные ресурсы Я, которое здесь обнаруживает намного большую реакцию, нежели просто «здоровое безразличие».
13 К. Давид, в работе Состояние влюбленности, (Маленькая Библиотека Пэйо), отметил, что любовь может также повысить нарциссизм, вызывая у влюбленного экзальтацию, сопровождающуюся состоянием восторга, являющегося результатом идентификации с переоцененным объектом, особенно в случае, когда любовь оказывается взаимной. Можно было бы сказать, что при таких обстоятельствах именно пара считает себя бессмертной, что могло бы объяснить суицид вдвоем при крайней степени любви, как в случае Г. фон Клейста.
14 М. Торок. Болезнь горя и фантазм чудесного трупа. Н. Абрахам. «Ядро и скорлупа». Обье-Фламмарион. С. 229–251.
Следовательно, есть целая совокупность достаточно убедительных аргументов о том, что бессмертие Я обладает очень широким полем в психике, так как оно простирается от нормальности до психоза. Если правомерно относить его к нарциссизму, то необходимо добавить, что это тот же нарциссизм, который внутри Я напрямую страдает от влечений смерти. Полагаю, что невозможно придерживаться явных формулировок по поводу нарциссизма Фрейда, который полностью располагает его на стороне влечений жизни. К положительному нарциссизму надо прикрепить его обратного двойника, который я предлагаю назвать негативным нарциссизмом. Таким образом, Нарцисс оказывается также и Янусом. Вместо того чтобы поддержать цель объединения Я, используя сексуальные влечения, негативный нарциссизм под властью принципа Нирваны, который представляет влечения смерти, стремится к снижению любого либидо до нулевого уровня, ведя к психической смерти. Мне кажется это логическим заключением относительно того, чем, в свете последней теории влечений, становится нарциссизм. За пределами фрагментации, которая дробит Я и возвращает его к аутоэротизму, абсолютный первичный нарциссизм желает обладать миметическим покоем смерти. Он является поиском нежелания Другого, несуществования, небытия, другой формы доступа к бессмертию. Никогда Я не было более бессмертным, чем тогда, когда оно утверждает, что больше не имеет никаких органов, никакого тела. Как и больной анорексией, который отказывается быть зависимым от своих телесных нужд и уменьшает свой аппетит путем радикальной ингибиции, дает себе умереть, как на это так правильно указывает язык.
Не только индивиды позволяют себе умереть. Есть также целые цивилизации, которые, похоже, страдают апатией, отказываясь от своих идеалов, погружаясь в пассивность, что оказывается предвестником их исчезновения, а также того, что они утратили всякую иллюзию о будущем. Именно в этом кроется один из аспектов последней части работ Фрейда, на что недостаточно обратили внимание его толкователи. Если Фрейд и продолжал день изо дня убеждать себя в обоснованности утверждения главенствующей роли, которую играют влечения к разрушению, то это происходило не по причине неправильного обобщения представленного клинического опыта. Нам известно, что его чаяния не ограничивались, как мы знаем, прояснением тайны невроза или даже психоза. Лечение неврозов было лишь применением метода. Слух психоаналитика, привыкший к клиническим выводам, не столь уверен по поводу того, что он способен уловить и разгадать в сознательном дискурсе общества. Общества – от самых «диких» и до самых цивилизованных – непрерывно кричат о желании жить в мире, при этом раздирают друг друга как на войне, так и в миру.
Любая война, не является ли она, в конце концов, наилучшей защитой от братоубийственной угрозы гражданской войны? Шекспир уже как-то это признал.
Цивилизация – всего лишь результат равновесия между влечениями жизни и влечениями смерти. Она улучшает судьбы индивидов, позволяет им пользоваться многими преимуществами, неведомыми нецивилизованным народам, – но у тех, впрочем, есть другие преимущества. Но она также является излюбленным полем влечений смерти. Практически не существует достижений технического прогресса, которые не были бы использованы в смертоносных целях. Кроме того, цивилизация навязывает индивидам отказ от удовлетворения влечений, что сокращает поле действия Эроса. Именно она способствует вытеснению, возвышает сублимацию и склоняется к самоудовлетворению. Неискоренимый нарциссизм приводит к мысли о том, что какая-то одна цивилизация лучше других. Конфликт назревает даже между так называемыми цивилизованными нациями, давая волю варварству, которое оправдывается самыми благородными идеалами. Данная программа взывает к компенсации уступок, требуемых от Эроса, которые не могут быть удовлетворены лишь развертыванием сил агрессивности. Безусловно, у идеала появилась функция по принятию мер по этому поводу, когда-то это происходило при помощи религии, затем, вчера и сегодня, – при помощи политических идеологий.
Бессмертию богов отвечало бессмертие героев (воинов, атлетов, политиков, святых, философов, артистов и ученых). Нелишним будет напомнить: между работами «По ту сторону принципа удовольствия» и «Я и Оно» был еще текст под названием «Психология масс и анализ Я» (1921), где Фрейд, сам того не ведая, предсказывал судьбу некоторых европейских обществ, которая толкала их к диктатуре. Но тут он оказался робким, так как не посмел использовать ресурсы последней теории влечений, которую только что представил. На тот момент, когда он еще колебался насчет значения своего открытия, ему показалось подходящим, вторгаясь в социальную сферу, не добавлять к предположительному характеру своего исследования гипотетическое влечение к смерти. Но работа «Болезнь цивилизации» (1930) исправит это упущение. Труд «Моисей и монотеизм» (1938) продолжает идеи текста «Тотем и табу» (1913), смело утверждая, что отец таки был убит своими сыновьями – вопреки всякой очевидности. Не столько для того, чтобы указать на постоянство Эдипа в обществе от самих его истоков, сколько для того, чтобы вновь подчеркнуть работу влечения к смерти и те способы, посредством которых народ может противиться своему собственному исчезновению. Сосредоточение вокруг одной Книги, его единственный вклад, говорит он, в процесс развития цивилизации. Политический проект сегодня принял эстафету у Священного Писания.
В наши дни, похоже, многие современные общества больше не способны придать фантазму бессмертия коллективную опору путем празднования обрядов или поминания прошлого. Лишенное связи с сообществом, бессмертие оказалось заброшенным, как позабытая могила. Оно отнесено к своеобразному верованию, к «частной религии», все еще сильно закрепленной в психике, но стесняющейся критики со стороны рационального Я. Конечно, это всего лишь показная реакция, имеющая мало последствий для внутреннего мира. Требования рациональности положили конец этому поручительству, полученному индивидуальным Я от такого благовидного и даже похвального разделенного убеждения; индивидуальная гордость питалась своим коллективным выражением; даже если каждый в душе знает, что будущее не может обойтись без подобной иллюзии бессмертия, он жалеет об утраченной общности.
Мы можем по праву спрашивать себя: что станет с этим существенным выражением отношения человека к смерти, к собственной смерти, без социальной поддержки? Вполне возможно, что те общества, которые поддерживают веру в бессмертие индивида и которые жертвуют собственной жизнью в надежде наступления утопического золотого века, будут торжествовать свою победу над теми, у которых бессмертие сведено лишь к отпрыску индивидуального бессознательного.
Как бы то ни было, кажется сомнительным, что такая более или менее фанатическая вера могла бы реализовать свои цели, не прибегая к разрушению обществ, руководимых различными идеологиями, и, как нам показывает опыт, не прибегая к насилию в своих собственных рядах. Так как погоня за мегаломаническими идеалами (изменение человеческой природы!) требует многих смертей. И тогда следует ожидать разочарования, которое наступит и не заставит себя ждать, тормозя осуществление обещаний. Под давлением людей и событий эти общества, возможно, окажутся вынужденными вернуть Эросу определенные права, которых он был лишен. Таковыми были выводы работы «Болезнь цивилизации», написанной вот уже больше пятидесяти лет тому назад. Можно ли надеяться на то, что бессмертие, поставленное на службу Эросу, сумеет возложить на себя более скромные задачи, находя достаточное нарциссическое удовлетворение в гордости принадлежности к некоей культурной традиции, без того чтобы презирать другие и добавлять к удовольствию принадлежности радость преемственности, детища единения. Возможно, именно эта – та форма, которую примет вызов, брошенный современному человеку – надеяться лишь на себя самого, когда боги покинули небо. Фрейд вновь обратился к стоической морали в своих размышлениях о жизни и смерти. Сегодня, вероятно, недостаточно просто спокойно готовить себя к возможности смерти. Следует пытаться дать отпор искушению предаться ей коллективно, ведь она угрожает всей планете губительными разрушениями.
Август 1982
раздел "Книги"