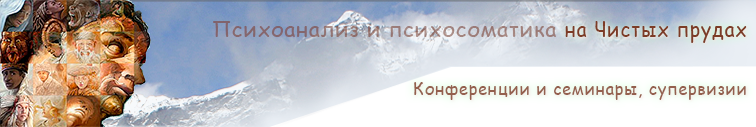Зигмунд Фройд "Леонардо да Винчи. Воспоминание детства" 1
4
Мы все еще не можем покончить с фантазией Леонардо о коршуне. В словах, которые слишком ясно выражают описание сексуального акта («и много раз толкнулся хвостом в мои губы»), Леонардо подчеркивает интенсивность эротического отношения между матерью и ребенком. По этой связи активности матери (коршуна) с указанием на ротовую область нетрудно отгадать еще другое воспоминание, содержащееся в этой фантазии. Мы можем перевести это так: мать запечатлела на моих губах бесчисленное количество страстных поцелуев. Фантазия состоит из воспоминания о сосании и поцелуях матери.
Благодетельная природа одарила художника способностью выражать свои самые таинственные, от него самого скрытые душевные движения в своих творениях, которые других посторонних сильно захватывают, и они сами не понимают почему. Неужели на жизнедеятельности Леонардо не должно было отразиться то, что его воспоминание сохранило как самое сильное впечатление детства? Этого надо было бы ожидать. Если же взвесить, какие глубокие превращения должно претерпеть впечатление художника раньше, чем он сделает вклад в искусство, то надо именно у Леонардо требование точности доказательств свести к самым скромным размерам.
Кто представляет себе картины Леонардо, тот вспомнит об удивительной, обольстительной и загадочной улыбке, которой он заворожил уста своих женских образов. Остановившаяся улыбка на растянутых, выведенных губах; она сделалась для него характерной и называется преимущественно ле-онардовскою. На странно-прекрасном лице флорентийки Моны Лизы Джоконды эта улыбка больше всего привлекала и приводила в замешательство зрителей. Она требовала объяснения и объяснялась разно и всегда малоудовлетворительно. «Что приковывало зрителя, это именно демонические чары этой улыбки. Сотни поэтов и писателей писали об этой женщине, которая кажется то обольстительно улыбающейся, то холодно и бездушно смотрящей в пространство, и никто не разгадал ее улыбки, никто не прочел ее мыслей. Все, даже ландшафт, загадочно, как сон, как будто все дрожит в знойной чувственности» (Gruyer).
Мысль, что в улыбке Моны Лизы соединены два различных элемента, являлась у многих критиков. Они поэтому видят в мимике прекрасной флорентийки совершеннейшее изображение противоречий, господствующих в любви женщины, сдержанность и обольстительность, полную преданности нежность и черствую, требовательную, захватывающую мужчину, как нечто чуждое, чувственность. Так, Мюнц говорит: «Известно, какое загадочное очарование вот уже четыре века Мона Лиза Джоконда производит на толпящихся перед ней поклонников. Никогда художнику (привожу слова тонкого критика, скрывающегося под псевдонимом Пьер Корле) „не удавалось передать так самую сущность женственности: нежность и кокетство, стыдливость и глухую страсть, всю тайну скрытного сердца, мыслящего мозга и прячущейся индивидуальности, которой виден один только отблеск…“
Итальянец Анджело Конти,[36] видя эту картину в Лувре, оживленную солнечным лучом, говорит: «Женщина спокойно улыбалась, выражая в этой улыбке свои инстинкты хищницы и наследственную жестокость своего пола, стремление соблазнять, красоту порока и доброту жестокой натуры, все то, что попеременно то появляется, то исчезает в ее смеющемся лице, сплавляясь в поэму этой улыбки… Добра и порочна, жестока и сострадательна, грациозна и уродлива, она смеется…»
Леонардо писал эту картину четыре года, вероятно с 1503 до 1507 года, во время своего второго пребывания во Флоренции, когда ему самому было больше пятидесяти лет. Он применял, по словам Вазари, самые изысканные способы, чтобы развлекать эту даму во время сеанса и удерживать улыбку на ее лице. Из всех тонкостей, которые его кисть тогда передавала на полотне, на картине в ее настоящем виде сохранилось только немногое; в то время, когда она писалась, она считалась самым высоким, что могло создать искусство; но ясно, что самого Леонардо она не удовлетворяла, почему он объявил ее неоконченной, не отдал заказчику, а взял с собой во Францию, где его покровитель Франциск I приобрел ее для Лувра.
Оставим неразрешенной загадку лица Моны Лизы и обратим внимание на несомненный факт, что улыбка ее приковывала художника не меньше, чем и всех зрителей, в продолжение четырехсот лет. Эта обольстительная улыбка повторяется с тех пор на всех его картинах и на картинах его учеников. Так как Мона Лиза Леонардо представляет портрет, то мы не можем предположить, чтобы он от себя придал ее лицу эту так трудно выразимую черту и что ее у нее не было. По всей вероятности, он нашел у своей модели эту улыбку и так сильно подпал под ее чары, что с той поры изображал ее и в своих свободных творениях. Подобный же взгляд высказывает, например, А. Константинова:
«В продолжение долгого времени, когда художник был занят портретом Моны Лизы Джоконды, он так проникся им и сжился со всеми деталями лица этого женского образа, что его черты и особенно таинственную улыбку и странный взгляд он перенес на все лица, которые он потом писал, мимическая особенность Джоконды заметна даже в картине Иоанна Крестителя в Лувре; особенно же ясно видны эти черты в лице Марии на картине со св. Анной».
Хотя могло быть и иначе. Не у одного его биографа являлась потребность более глубокого обоснования этой притягательной силы, с которой улыбка Джоконды завладела художником, чтобы его больше не оставлять. В. Патер, видящий в картине Моны Лизы «воплощение всего любовного переживания культурного человечества» и очень тонко высказавший, что эта непостижимая улыбка у Леонардо постоянно как будто связана с чем-то нечестивым, направляет нас на другой путь, когда говорит: «В конце концов картина эта есть портрет. Мы можем проследить, как он с детства примешивается в содержание его грез, так что если бы против не говорили веские свидетельства, то можно было бы подумать, что это был найденный им наконец, воплотившийся идеал женщины…»
То же самое, конечно, имеет в виду и Герцфельд, когда высказывает, что в Моне Лизе Леонардо встретил самого себя, почему он смог так много внести своего в образ, черты которого в загадочной симпатии издавна жили в его душе.
Попробуем развить и разъяснить эти мнения. Итак, могло быть, что Леонардо прикован был улыбкой Моны Лизы, потому что она будила что-то, уже издавна дремавшее в его душе, вероятно, старое воспоминание. Воспоминание это было достаточно глубоко, чтобы, раз проснувшись, больше его не покидать; его влекло постоянно снова его изображать. Уверение Патера, что можно проследить, как лицо, подобное лицу Моны Лизы, вплетается с детства в ткань его грез, кажется правдоподобным и заслуживает быть понятым буквально.
Вазари упоминает как его первые художественные попытки «teste di femine che ridono» (головки смеющихся женщин). Это место, не допускающее сомнений, потому что оно ничего не хочет доказать, гласит дословно так: «Когда он в юности сделал из глины несколько смеющихся женских головок, которые были во множестве вылиты из гипса, и несколько детских головок так хорошо, что можно подумать, они созданы были рукой великого мастера…»
Итак, мы узнаем, что его художественные упражнения начались с изображения двух родов объектов, которые должны нам напомнить два сексуальных объекта, найденных нами при анализе фантазии о коршуне. Если прелестные детские головки были повторением его собственной детской личности, то улыбающиеся женщины были не чем иным, как повторением Катарины, его матери, и мы в таком случае начинаем предвидеть возможность, что его мать обладала загадочной улыбкой, которую он утерял и которая так его приковала, когда он нашел ее опять во флорентийской даме.[37]
По времени написания стоит ближе всех к Моне Лизе картина, называемая «Святая Анна втроем», то есть св. Анна с Марией и младенцем Христом. Здесь видна леонардовская улыбка, прекрасно выраженная на обоих женских лицах. Нет возможности определить, насколько раньше или позже, чем портрет Моны Лизы, ее начал писать Леонардо. Так как обе работы тянулись годы, надо, без сомнения, предположить, что художник занимался ими одновременно. Наиболее согласовалось бы с нашей идеей, если бы именно углубление в черты лица Моны Лизы побудило Леонардо создать композицию св. Анны. Потому что если улыбка Джоконды пробуждала в нем воспоминание о матери, то тогда нам понятно, что она прежде всего толкнула его создать прославление материнства и улыбку, найденную им у знатной дамы, возвратить матери. Поэтому мы принуждены перенести наш интерес с портрета Моны Лизы на эту другую, едва ли менее прекрасную картину, находящуюся теперь тоже в Лувре.
Св. Анна с дочерью и внуком – сюжет, редко встречающийся в итальянской живописи. Изображение Леонардо, во всяком случае, очень отличается от всех до сих пор известных. Мутер говорит: «Некоторые художники, как Ганс Фрис, Гольбейн старший и Джироламо де Либри, изображали Анну, сидящую рядом с Марией, а между ними стоящего ребенка. Другие, как Якоб Корнелиус в своей берлинской картине, изображали в буквальном смысле слова „Святую Анну втроем“, то есть они представляли ее держащей в руках маленькую фигурку Марии с еще меньшей фигуркой Христа на руках». У Леонардо Мария сидит на коленях своей матери, наклонившись вперед и протянув обе руки к мальчику, играющему с ягненком, которого, конечно, немного обижает. Бабушка, подбоченившись одной рукой, с блаженной улыбкой смотрит вниз на обоих. Группировка, конечно, не совсем непринужденная. Улыбка, играющая на губах обеих женщин, хотя, без сомнения, та же, что на портрете Моны Лизы, но утратила свой неприветливый и загадочный характер и выражает задушевность и тихое блаженство.[38]
При известном углублении в эту картину зритель начинает понимать, что только Леонардо мог написать ее так же, как только он мог создать фантазию о коршуне. В этой картине заключается синтез истории его детства; детали этой картины могут быть объяснены личными жизненными переживаниями Леонардо. В доме своего отца он нашел не только добрую мачеху донну Альбиеру, но также и бабушку, мать его отца, Мону Лючию, которая, надо думать, была с ним не менее нежна, чем вообще бывают бабушки. Это обстоятельство могло бы направить его мысль на представление о детстве, охраняемом матерью и бабушкой. Другая удивительная черта картины приобретает еще большее значение. Св. Анна, мать Марии и бабушка мальчика, которая должна была быть в солидном возрасте, изображена здесь, может быть, немного старше и серьезнее, чем св. Мария, но еще молодой женщиной с неувядшей красотой. Леонардо дал на самом деле мальчику двух матерей: одну, которая простирает к нему руки, и другую, находящуюся на заднем плане, и обеих он изобразил с блаженной улыбкой материнского счастья. Эта особенность картины не преминула возбудить удивление писателей; Мутер, например, полагает, что Леонардо не мог решиться изобразить старость, складки и морщины и потому сделал и Анну женщиной, блещущей красотой. Можно ли удовлетвориться этим объяснением? Другие нашли возможным отрицать вообще одинаковость возраста матери и дочери (Зейд-лиц). Но попытка объяснения Мутера вполне достаточна для доказательства, что впечатление о молодости св. Анны действительно получается от картины, а не внушено тенденцией.
Детство Леонардо было так же удивительно, как эта картина. У него было две матери, первая его настоящая мать, Катарина, от которой он отнят был между тремя и пятью годами, и молодая, нежная мачеха, жена его отца, донна Аль-биера. Из сопоставления этого факта его детства с предыдущим и соединения их воедино у него сложилась композиция «Святой Анны втроем». Материнская фигура более удалена от мальчика, изображающая бабушку – соответствует по своему виду и месту, занимаемому на картине по отношению к мальчику, настоящей прежней матери, Катарине. Блаженной улыбкой св. Анны прикрыл художник зависть, которую чувствовала несчастная, когда она должна была уступить сына, как раньше уступила мужа своей более знатной сопернице.
Таким образом, и другое произведение Леонардо подтверждает предположение, что улыбка Моны Лизы Джоконды разбудила в Леонардо воспоминание о матери его первых детских лет. Мадонны и знатные дамы у итальянских художников с тех пор имели смиренно склоненную голову и странно-блаженную улыбку бедной крестьянской девушки Катарины, которая родила миру чудесного, предопределенного для художества, исследования и терпения сына.
Если Леонардо удалось передать в лице Моны Лизы двойной смысл, который имела ее улыбка, обещание безграничной нежности и зловещую угрозу (по словам Патера), то он и в этом остался верен содержанию своего раннего воспоминания. Нежность матери стала для него роковой, определила его судьбу и лишения, которые его ожидали. Страстность ласк, на которую указывает его фантазия о коршуне, была более чем естественна: бедная покинутая мать принуждена была все воспоминание о былой нежности и свою страсть излить в материнской любви; она должна была поступать так, чтобы вознаградить себя за то, что лишена была мужа, а также вознаградить ребенка, не имевшего отца, который бы его приласкал. Таким образом, она, как это бывает с неудовлетворенными матерями, заменила своего мужа маленьким сыном и слишком ранним развитием его эротики похитила у него часть его мужественности. Любовь матери к грудному ребенку, которого она кормит и за которым ухаживает, нечто гораздо более глубоко захватывающее, чем ее позднейшее чувство к подрастающему ребенку. Она по натуре своей есть любовная связь, вполне удовлетворяющая не только все духовные желания, но и все физические потребности, и если она представляет одну из форм достижимого человеком счастья, то это нисколько не вытекает из возможности без упрека удовлетворять давно вытесненные желания, называемые извращениями. В самом счастливом молодом браке отец чувствует, что ребенок, в особенности маленький сын, стал его соперником, и отсюда берет начало глубоко коренящаяся неприязнь к предпочтенному.
Когда Леонардо, уже будучи взрослым, вновь встретил эту блаженно-восторженную улыбку, которая некогда играла на губах ласкавшей его матери, он давно был под властью задержки, не позволявшей ему желать еще когда-нибудь таких нежностей от женских уст. Но теперь он был художник и потому постарался кистью вновь создать эту улыбку; он придавал ее всем своим картинам, рисовал ли он их сам или под своим руководством заставлял рисовать учеников, – «Леде», «Иоанну» и «Бахусу». Две последних – вариация одного и того же типа. Мутер говорит: «Из библейского питавшегося акридами мужа Леонардо сделал Бахуса или Аполлона, который с загадочной улыбкой, положивши одно на другое слишком полные бедра, смотрит на нас обворожительно-чувственным взглядом». Картины эти дышат мистикой, в тайну которой не осмеливаешься проникнуть; можно, самое большее, попытаться восстановить связь ее с прежними творениями Леонардо. В фигурах снова смесь мужского и женского, но уже не в смысле фантазии о коршуне, это прекрасные юноши, женственно нежные, с женственными формами; они не опускают взоров, а смотрят со скрытым торжеством, как будто бы знают о большом счастье, о котором надо молчать; знакомая обольстительная улыбка заставляет чувствовать, что это любовная тайна. Очень может быть, что Леонардо в этих образах отрекается и искусственно подавляет свое ненормально развившееся чувство, изображая в столь блаженном слиянии мужской и женской сущности исполнение желания завороженного матерью мальчика.
5
Между записками дневника Леонардо находится одна, приковывающая внимание читателя из-за многозначительности ее содержания и крошечной формальной ошибки.
Он пишет в июле 1504 года: «9 июля 1504 г. в среду в 7 часов утра умер синьор Пьеро да Винчи, нотариус во дворце Подеста; мой отец в 7 часов. Ему было 80 лет; оставил 10 детей мужского пола и 2 женского».
Итак, в заметке говорится о смерти отца Леонардо. Небольшая ошибка в ее форме заключается в том, что определение времени «a ore 7» повторено 2 раза, как будто бы Леонардо в конце фразы позабыл, что он это только что написал вначале. Это только мелочь, над которой другой, не психоаналитик, и не задумался бы. Он бы ее не заметил вовсе или, если бы ему на нее указали, сказал бы: это может случиться по рассеянности или в аффекте со всяким и не имеет никакого значения. Психоаналитик думает иначе; для него все имеет значение как проявление скрытых душевных процессов; он давно убедился, что такое забывание или повторение полно значения и что благодаря «рассеянности» возможно разгадать скрытые побуждения.
Мы можем сказать, что и эта заметка, как счет о погребении Катарины и счета расходов на учеников, представляет случай, где Леонардо не удалось подавить свой аффект и долго скрываемое выразилось в искаженном виде. Даже и форма похожа: та же педантичная точность, то же выдвижение на первый план цифр.[39]
Мы называем такое повторение перверсацией. Это отличное вспомогательное средство, чтобы распознать аффективную окраску. Вспомним, например, негодующую речь св. Петра против своего недостойного заместителя на земле из дантовского рая:
Тот, кто, как вор, воссел на мой престол,
На мой престол, на мой престол, который
Пуст перед сыном божиим, возвел
На кладбище моем сплошные горы
Кровавой грязи; сверженный с высот,
Любуясь этим, утешает взоры. Данте. Божественная комедия. (Пер. М. Лозинского)
Если бы не было подавления аффекта у Леонардо, то место это в дневнике могло бы гласить приблизительно так: «Сегодня в 7 часов умер мой отец, синьор Пьеро да Винчи, мой бедный отец!» Но сдвинутое перверсией на равнодушное оповещение о смерти, на определение часа смерти, оно отнимает у этой заметки весь пафос и позволяет нам угадать, что здесь было кое-что, что надо было скрыть и подавить. Синьор Пьеро да Винчи, нотариус и потомок нотариусов, был человек с большой энергией, благодаря которой он завоевал себе уважение и приобрел благосостояние. Он был женат четыре раза; две его первые жены умерли бездетными, только третья подарила ему в 1476 году первого законного сына, когда Леонардо было уже двадцать четыре года и он давно променял отчий дом на мастерскую своего учителя Верроккьо; от четвертой, последней жены, на которой он женился пятидесяти лет, он имел еще девять сыновей и двух дочерей.[40]
Отец этот, конечно, также имел значение для психосексуального развития Леонардо, и не только в отрицательном смысле вследствие своего отсутствия в первые годы жизни мальчика, но также непосредственно, своим присутствием в его позднейшие детские годы.
Тот, кто ребенком чувствует влечение к матери, не может не желать быть на месте отца; он отождествляет себя с ним в фантазии и позже ставит себе целью его превзойти. Когда Леонардо, не имея и пяти лет, был взят в дом деда, молодая мачеха Альбиера, вероятно, заместила в его чувствах его мать, и он, естественно, оказался в положении соперника к отцу. Склонность к гомосексуальности наступает, как известно, только с приближением к годам полового созревания. Когда это время наступило для Леонардо, отождествление себя с отцом потеряло всякий смысл для его сексуальной жизни, но осталось в других областях неэротического характера. Мы узнаем, что он любил блеск и красивые одежды, держал слуг и лошадей, несмотря на то что он, по словам Вазари, «почти ничего не имел и мало работал». Причину этого пристрастия мы видим не только в его любви к красоте, но также в навязчивом стремлении копировать отца и его превзойти. Отец был по отношению к бедной крестьянской девушке знатным барином, поэтому осталось в сыне побуждение играть знатного барина, стремление «to out Herod» (превзойти Ирода), показать отцу, какова истинная знатность.
Кто творит как художник, тот чувствует себя в отношении своих творений отцом. Для художественного творчества Леонардо его отождествление себя с отцом имело роковое последствие. Он создавал свои творения и больше о них не заботился, как его отец не заботился о нем. Позднейшие попечения о нем отца не могли ничего изменить в этом навязчивом стремлении, потому что оно исходило из впечатлений первых детских лет, а вытесненное и оставшееся в бессознательном непоправимо позднейшими переживаниями.
Во времена Возрождения, как и много позже еще, каждый художник нуждался в высокопоставленном господине и покровителе, в патроне, который давал ему заказы, в руках которого находилась его судьба. Леонардо нашел своего патрона в честолюбивом, любящем роскошь, тонком политике, но непостоянном и легкомысленном Лодовике Сфорце по прозванию Моро. При его дворе в Милане он провел самый блестящий период своей жизни; здесь развил он сильнее всего свое творчество, доказательством чему служат «Тайная вечеря» и конная статуя Франческо Сфорца. Он покинул Милан раньше, чем разразилась катастрофа над Лодовиком Моро, который умер заключенным в одной французской тюрьме.
Когда это известие о его покровителе дошло до Леонардо, он написал в своем дневнике: «Герцог потерял свою землю, свое имущество, свою свободу, и ни одно дело, им предпринятое, не было доведено до конца». Удивительно и, конечно, не лишено значения, что он здесь делает своему патрону тот самый упрек, который потомство должно было сделать ему самому, как будто он хотел сделать ответственным кого-нибудь из разряда отцов за то, что он сам оставил недоконченными свои произведения. На самом деле он не был несправедлив к герцогу.
Но если подражание отцу повредило ему как художнику, то антагонизм к отцу был инфантильным условием его столь же, может быть, великого творчества в области исследования. По прекрасному сравнению Мережковского, он походил на человека, проснувшегося слишком рано, когда было еще темно и когда все другие еще спали. Он отважился высказать смелое положение, которое защищает всякое свободное исследование: «Кто в борьбе мнений опирается на авторитет, тот работает своею памятью, вместо того чтобы работать умом». Так он сделался первым из новых исследователей природы; первый со времен греков он подошел к тайнам природы, опираясь только на наблюдение и собственный опыт, и множество познаний и предвидений были наградою его мужества. Но если он учил пренебрегать авторитетом и отбросить подражание «старикам» и все указывал на изучение природы как на источник всякой истины, то он только повторял в высшем доступном для человека сублимировании убеждение, которое когда-то уже сложилось у удивленно смотрящего на мир мальчика. Если с научной абстракции перевести это обратно на конкретное личное переживание, то старики и авторитет соответствуют отцу, а природа – это нежная, добрая, вскормившая его мать. Тогда как у большинства людей – и сейчас еще, как и в древности, – потребность держаться за какой-нибудь авторитет так сильна, что мир им кажется пошатнувшимся, если что-нибудь угрожает этому авторитету, один только Леонардо мог обходиться без этой опоры; он не был бы на это способен, если бы в первые годы жизни не научился обходиться без отца. Смелость и независимость его позднейших научных исследований предполагает не задержанное отцом инфантильное сексуальное исследование, а отказ от сексуальности дает этому дальнейшее развитие.
Если бы кто-нибудь, как Леонардо, избежал в своем детстве запугиваний отца и в своем исследовании сбросил цепи авторитета, то было бы невероятно ожидать от этого человека, чтобы он остался верующим и не мог отказаться от догматической религии. Психоанализ научил нас видеть интимную связь между отцовским комплексом и верой в Бога; он показал нам, что личный бог психологически – не что иное, как идеализированный отец, и мы наблюдаем ежедневно, что молодые люди теряют религиозную веру, как только рушится для них авторитет отца. Таким образом, в комплексе родителей мы открываем корни религиозной потребности; всемогущий праведный Бог и благодетельная природа представляются нам величественным сублимированием отца и матери, более того, обновлением и восстановлением ранних детских представлений об обоих. Биологически религиозность объясняется долго держащейся беспомощностью и потребностью в покровительстве человеческого детеныша. Когда впоследствии он узнает свою истинную беспомощность и бессилие против могущественных факторов жизни, он реагирует на них, как в детстве, и старается скрыть их безотрадность возобновлением инфантильных защитных сил.
Кажется, пример Леонардо не опровергает это воззрение на религиозное верование. Обвинения его в неверии или, что по тому времени было то же, в отпадении от христианской веры возбуждались против него уже при его жизни и были определенно отмечены первой его биографией, написанной Вазари. Во втором издании его «Жизнеописания…», вышедшем в 1568 году, Вазари выпустил эти примечания. Нам вполне понятно, что Леонардо, зная чрезвычайную чувствительность своей эпохи к религиозным вопросам, воздерживался в своих записках прямо выражать свое отношение к христианству. Как исследователь, он нисколько не поддавался внушениям Священного писания о сотворении мира, он оспаривал, например, возможность всемирного потопа и считал так же уверенно, как и современные ученые в геологии, тысячелетиями.
Между его «пророчествами» есть много таких, которые должны бы оскорблять тонко чувствующего христианина, как, например, о поклонении святым иконам: «Говорить будут с людьми, которые ничему не внемлют, у которых глаза открыты, но ничего не видят; они будут обращаться к ним и не получать ответа; они будут молить о милостях того, кто имеет уши и не слышит; они будут возжигать свечи тому, кто слеп».
Или о плаче в Страстную пятницу: «Во всей Европе многочисленными народами оплакивается смерть одного человека, умершего на Востоке».
Об искусстве Леонардо говорили, что в его фигурах святых исчез последний остаток церковного догматизма, что он приблизил их к человеческому, чтобы воплотить в них великие и прекрасные человеческие чувства. Мутер восхваляет его за то, что он победил декаданс и вернул человечеству право иметь страсти и радостно пользоваться жизнью. В записках, где Леонардо углубляется в разрешение великих загадок природы, не отсутствует выражение восхищения перед Творцом как последней причиной всех этих чудесных тайн, но ничто не указывает на желание закрепить свою личную связь с этим могущественным божеством. Афоризмы, в которые он вложил глубокую мудрость последних лет своей жизни, дышат смирением человека, который подчиняется необходимым законам природы и не ждет никакого облегчения от благости или милости Бога. Едва ли можно сомневаться, что Леонардо победил как догматическую, так и личную религию и своей работой исследователя очень отдалился от миросозерцания верующего христианина.
Согласно ранее высказанным взглядам на развитие души ребенка мы можем предположить, что первое исследование Леонардо в детстве имело предметом проблемы сексуальности. Но он сам обнаруживает это достаточно ясно, связывая свое стремление к исследованию с фантазией о коршуне. Он выставляет свой труд над проблемой птичьего полета как выпавший ему на долю особым предопределением судьбы. Одно очень неясное, звучащее как предсказание место в его записках, трактующее о птичьем полете, лучше всего доказывает, с каким аффективным интересом его влекло желание самому научиться искусству летать: «Она предпримет, эта большая птица, свой первый полет с хребта Большого Лебедя, наполнит мир удивлением и все писания похвалами, и вечная слава будет воздаваться гнезду, где она родилась».[41] Вероятно, Леонардо надеялся, что сам когда-нибудь сможет полететь; а мы знаем из снов, заключающих это желание, какое счастье ожидается от исполнения этой надежды. Почему же снится многим людям, что они умеют летать? Психоанализ отвечает на это, что летание или превращение в птицу только маскировка другого желания, к разгадке которого ведет не один и словесный и вещественный мост. Если любопытным детям рассказывают, что большая птица, как аист, приносит маленьких детей, если древние изображали фаллос крылатым, если в немецком языке Vogeln – самое употребительное обозначение мужской половой деятельности, у итальянцев мужской орган называется прямо l'uccello (птица), то это только маленькие звенья большой цепи, которые показывают нам, что умение летать во сне означает не что иное, как желание быть способным к половой деятельности. Это есть раннее инфантильное желание. Если взрослый вспоминает свое детство, оно представляется ему счастливым временем, когда радуются настоящему и, ничего не желая, идут навстречу будущему, поэтому взрослый завидует детям. Но сами дети, если бы они могли дать об этом сведения, сообщили бы, вероятно, другое. Вероятно, детство не есть та блаженная идиллия, какой она нам кажется позже, если желание стать взрослым и делать то, что делают взрослые, заставляет детей стремиться поскорее пережить годы детства. Это желание руководит всеми их играми. Если дети в период, когда любознательность направлена на сексуальное исследование, чувствуют, что взрослый знает нечто грандиозное в этой загадочной и такой важной области, в которой знать и действовать им запрещено, то в них пробуждается непреодолимое желание достигнуть этого самого, и это желание они выражают во сне в виде летания или подготавливают эту скрытую форму желания для будущих подобных снов. Таким образом, и авиатика, достигшая наконец в наше время своей цели, коренится также в инфантильном эротизме.
Признаваясь в том, что с детства чувствовал особое личное влечение к проблеме летания, Леонардо доказывает нам, что его детская любознательность была направлена на сексуальное; это мы должны предположить на основании наших исследований современных детей. Одна эта проблема избежала того вытеснения, которое позже сделало Леонардо чуждым сексуальности; с детских лет и до полной Интеллектуальной зрелости сохранил он интерес к этой проблеме, только немного меняя ее смысл; и очень вероятно, что желанное искусство в примитивном сексуальном смысле удалось ему так же мало, как и искусство в механике, и что оба они остались для него недостижимыми желаниями.
Великий Леонардо вообще в некоторых вещах всю жизнь оставался ребенком; говорят, что все великие люди сохраняют в себе нечто детское. Будучи взрослым, он продолжал играть, вследствие чего казался иногда своим современникам странным и неприятным. Когда мы видим, что он изготовлял искусные механические игрушки для дворцовых празднеств и торжественных приемов, то мы бываем недовольны, что художник тратит свои силы на такие пустяки. Сам он, видимо, не без удовольствия занимался этим, потому что Вазари сообщает, что он делал это и тогда, когда ему никто этого не поручал: «Там (в Риме) он изготовил тесто из воска и, когда оно было еще жидко, слепил очень тонко из него животных, наполненных воздухом; когда он их надувал, то они летали, когда воздух выходил, падали на землю. Редкостной ящерице, найденной садовником Бельведера, он приделал крылья из кожи, снятой с другой ящерицы, и наполнил их ртутью, так что они двигались и дрожали, когда она бегала; потом он ей сделал глаза, бороду и рога, приручил ее, посадил в ящик и приводил ею в ужас своих друзей».[42] Часто эти игрушки служили ему для выражения глубоких идей: «Он давал вычистить бараньи кишки так чисто, что они помещались в горсти; он приносил их в большую комнату, в соседней комнате помещал пару мехов, прикреплял к ним кишки и раздувал их так, что они заполняли всю комнату и всем приходилось убегать в угол; показывая, как они постепенно становились прозрачны и воздушны, как вначале они занимали только маленькое местечко, а потом все дальше распространялись в пространстве, Леонардо сравнивал их с гением». То же удовольствие забавляться невинным скрыванием и искусным замаскирова-нием выражают его басни и загадки; последние, написанные в форме «предсказаний», почти все содержательны по смыслу, но в высшей степени лишены остроумия. Игры и шутки, которыми Леонардо позволял заниматься своей фантазии, вводили иногда в большое заблуждение его биографов, не понявших его характер. В миланских манускриптах Леонардо находятся, например, наброски писем к «Диодарию сирийскому, наместнику священного султаната Вавилонии», в которых Леонардо выставляет себя инженером, посланным в эти страны Востока для выполнения известных работ, защищается против упреков в медлительности, дает географическое описание городов и гор, рассказывает о стихийном явлении, случившемся там во время его пребывания (см. Мюнц и Герцфельд).
Рихтер в 1881 году хотел доказать по этим отрывкам, что Леонардо в самом деле состоял на службе у египетского султана, составил там эти путевые заметки и даже принял на Востоке магометанскую религию. Пребывать там он должен был до 1483 года, до его переселения в Милан ко двору герцога. Но критике других авторов было нетрудно угадать-в описаниях мнимого путешествия Леонардо на Восток то, чем они и были в действительности – фантазиями юного художника, которые он создавал сам с собой, в которых он, может быть, выражал свои желания повидать свет и испытать приключения.
Таким же созданием фантазии является, вероятно, и «Аса-demia Vinciana», предположение о существовании которой основывается на пяти или шести очень искусно замаскированных эмблемах с надписями академии. Вазари говорит об этих рисунках, но не упоминает об академии.[43] Мюнц, поместивший подобный орнамент на обложке своего большого труда о Леонардо, принадлежит к немногим, верящим в реальность «Academia Vinciana».
Очень может быть, что это стремление играть исчезло у Леонардо в более зрелом возрасте, что и оно тоже перешло в деятельность исследователя, которая была последним и высшим проявлением его личности. Но то, что оно так долго сохранялось, показывает нам, как медленно отрывается от своего детства тот, кто испытывал в детском возрасте высшее и позже уже недостижимое эротическое блаженство.
6
Нельзя сомневаться в том, что современные читатели находят безвкусными все биографии, написанные с точки зрения патологии. Они говорят, что, разбирая великого человека с точки зрения патологии, никогда нельзя прийти к пониманию его значения и его деятельности; поэтому это только напрасная затея – изучать именно на нем то, что с таким же успехом можно найти у всякого другого человека. Но подобная критика так очевидно несправедлива, что ее можно понять только как отговорку или лицемерие. Патография вообще не задается целью сделать понятной деятельность великого человека, и нельзя ведь никому ставить в упрек, что он не исполнил того, чего он никогда не обещал. Истинные мотивы этого противодействия совсем другие. Их можно разгадать, если принять во внимание, что биографы привязаны к своему герою совсем особым способом. Они часто выбирают кого-нибудь объектом своего изучения, потому что по причинам их личных чувств относятся к нему с особой эффективностью. Потом они работают над его идеализацией, имеющей целью внести великого человека в разряд их инфантильных образцов, как, например, вновь воскресить детское представление об отце. Преследуя это желание, они стирают в его облике индивидуальные черты, сглаживают следы жизненной борьбы с внутренними и внешними препятствиями, не признают в нем никаких человеческих слабостей и несовершенств и дают нам тогда холодный, чуждый, идеальный образ вместо человека, которого мы могли бы чувствовать хотя и далеким, но родным. Жаль, что они так поступают, потому что таким образом они жертвуют правдой для иллюзии, и в угоду их инфантильной фантазии они пренебрегают случаем проникнуть в чудесные тайны человеческой природы.[44]
Сам Леонардо со своей любовью к истине и стремлением к знанию не отказался бы от опыта разгадать по маленьким странностям и загадкам его натуры условия его душевного и интеллектуального развития. Поучаясь на нем, мы этим воздаем ему почести. Мы не умаляем его величия тем, что изучаем жертву, которой потребовало его развитие из ребенка, и сопоставляем моменты, наложившие трагическую черту неудачи на его личность.
Мы решительно заявляем, что никогда не причисляли Леонардо к невротикам или, по неудачному выражению, к «нервнобольным». Кто недоволен, что мы вообще отваживаемся применять к нему взгляды, почерпнутые из патологии, тот еще крепко держится за предрассудки, от которых мы уже успели отказаться. Мы уже не думаем, что можно провести резкую границу между здоровьем и болезнью, между нормальным и нервным и что невротические черты должны считаться доказательством общего несовершенства. Мы знаем теперь, что невротические симптомы служат заместителями известных вытесненных действий, которые мы должны были выполнить в период нашего развития из ребенка в культурного человека, что мы все продуцируем подобные замещения и что только их число, интенсивность и распределение дают на практике понятие о болезни и позволяют заключать о конституциональном несовершенстве. По мелким признакам в личности Леонардо мы должны приблизить его к тому невротическому типу, который мы называем типом навязчивости, его исследование приравнять к навязчивым мечтаниям невротиков, его задержки их так называемым абулиям.
Целью нашей работы было объяснить задержки в сексуальной жизни Леонардо и его художественной деятельности. Да будет нам позволено сделать общий обзор всего, что мы могли открыть в ходе развития его психики. Нам нет возможности проникнуть в его наследственность, но зато мы узнаем, что случайные обстоятельства его детства оказали на него глубоко вредное влияние. Его незаконное рождение устраняет его почти до пятого года от влияния отца и предоставляет нежному попечению матери, которой он составляет единственное утешение. Заласканный ею и благодаря этому преждевременно сексуально развившийся, он неизбежно должен был вступить в фазу инфантильной половой деятельности, из которой достоверно одно-единственное проявление – это интенсивность его инфантильного сексуального исследования. Влечение смотреть и знать наиболее возбуждалось его ранними детскими впечатлениями; эрогенная ротовая зона приобретает значение, которое сохраняется навсегда. Из позднейшего противоположного поведения, как, например, чрезмерной жалости к животным, мы можем заключить, что в этом периоде детства не было недостатка в сильных чертах садизма.
Энергичное усилие вытеснения обрывает это детское увлечение и устанавливает предрасположения, которые должны проявиться в периоде полового созревания. Отвращение ко всему грубочувственному – наиболее бросающийся в глаза результат превращения; Леонардо может жить абстинентом и производить впечатление бесполого. Когда волны полового возбуждения проснулись в юноше, они не сделали его больным, толкая его к дорогим и вредным суррогатам; большая доля сексуального влечения благодаря раннему появлению сексуальной любознательности смогла быть сублимирована в стремление к познанию вообще и таким образом избежала вытеснения. Много меньшая часть либидо осталась для сексуальных целей и представляет собой у взрослого Леонардо атрофированную сексуальную жизнь. Вследствие вытеснения либидо к матери эта маленькая часть превращается в гомосексуальность и выражается в идеальной любви к мальчикам. В бессознательном остается фиксированность к матери и к блаженным воспоминаниям их отношений; но это застывает в пассивном состоянии. Таким образом, распределяется между вытеснением, фиксированием и сублимированием сумма полового влечения в душе Леонардо.
Из неведомого детства Леонардо предстал перед нами художником и скульптором. Это специфическое дарование могло усилиться благодаря раннему пробуждению в первые детские годы влечения смотреть. Нам хотелось бы показать, каким образом художественная деятельность исходит из основных душевных влечений, если бы как раз здесь не изменяли нам наши средства. Поэтому мы довольствуемся выяснением едва ли еще спорного факта, что творчество художника дает исход также и его сексуальному влечению, и указываем на сведение о Леонардо, сообщенное Вазари, что головы улыбающихся женщин и красивых мальчиков, то есть изображения его сексуальных объектов, были его первыми художественными опытами. Вначале, в юношеском возрасте, Леонардо работает, кажется, свободно, без задержки. Так как в своей внешней жизни он берет за образец отца, в Милане, где судьба послала ему заместителя отца в лице герцога Ло-довика Моро, он переживает время мужской творческой силы и художественной продуктивности. Но вскоре на нем оправдывается наблюдение, что почти полное подавление реальной половой жизни не представляет наиболее благоприятных условий для деятельности сублимированного сексуального стремления. На этой деятельности отражается реальная сексуальная жизнь, поэтому активность и способность к быстрому решению начинают ослабевать, склонность к колебанию и затягиванию, видимо, вредит уже в «Тайной вечере» и решает под влиянием недостатков техники судьбу этого великого произведения. Так медленно совершается в нем процесс, который можно приравнять к регрессированию у невротиков.
Развившийся при половом созревании художник пересиливается определившимся в детстве исследователем; второе сублимирование его эротических стремлений отступает перед образовавшимся раньше, при первом вытеснении. Он становится исследователем, вначале служа этим своему искусству, потом независимо от него и покинув его.
С потерей покровителя, замещающего ему отца, и омрачением его жизни все больше растет это регрессивное замещение. Он становится «impacientissimo al penello» (одержимым кистью), как пишет корреспондент маркграфини Изабеллы д'Эсте, которая непременно желала иметь еще одну картину его кисти. Его далекое детство получило над ним власть. Но исследование, заменившее ему теперь художественное творчество, носит на себе, по-видимому, некоторые черты, составляющие отличительные признаки деятельности бессознательных влечений, – ненасытность, непоколебимое упорство, отсутствие способности применяться к обстоятельствам.
На высоте зрелого возраста, после пятидесяти лет, в том периоде жизни, когда у женщины половая жизнь только что замерла, а у мужчины либидо делает нередко еще один энергичный прыжок, в Леонардо происходит новая перемена. Еще более глубоко лежащие слои его души вновь становятся активны, и эта новая регрессия благоприятна для его готового угаснуть искусства. Он встречает женщину, которая будит в нем воспоминание о счастливой, блаженно-восторженной улыбке его матери, и под влиянием этого в нем вновь просыпается желание, которое привело его к началу его художественных опытов, к вылепливанию улыбающихся женщин. Он рисует «Мону Лизу», «Святую Анну втроем» и ряд полных таинственности, отличающихся загадочной улыбкой картин. Так, благодаря самым ранним эротическим душевным переживаниям празднует он триумф, еще раз преодолевая задержку в своем искусстве. Это последнее его развитие расплывается для нас во мраке приближающейся старости.
Его интеллект поднялся еще ранее до высших ступеней деятельности, и его мировоззрение оставило далеко позади себя свое время.
Выше я приводил основания, дающие мне право именно так понимать ход развития Леонардо, расчленить подобным образом его жизнь, объяснить его колебания между. искусством и наукой.
Если по поводу этого изложения мне придется даже от друзей и знатоков психоанализа услышать приговор, что я просто написал психологический роман, то отвечу, что я, конечно, не переоцениваю достоверности моих выводов. Я вместе с другими поддался обаянию, исходящему от этого великого и загадочного человека, в натуре которого чувствуются могучие страсти, проявлявшиеся, однако, только так странно заглушенно.
Но какова бы ни была правда о жизни Леонардо, мы не можем отказаться от попытки ее обосновать психоаналитически раньше, чем не разрешим другой задачи. Мы должны определить в общих чертах границы, которые даны деятельности психоанализа в биографии, для того чтобы нам не представлялось неудачей каждое отсутствие объяснения. Материалом для психоаналитического исследования служат даты в истории жизни и, с одной стороны, случайности, события и влияния среды, с другой – сведения о реагировании на это индивидуума.
Опираясь на свое знание психического механизма, психоанализ пытается понять сущность индивидуума динамически по его реагированию, открыть его первоначальные душевные побудительные причины и их позднейшие превращения и развитие. Если это удается, то из взаимодействия натуры и судьбы, внутренних сил и внешних факторов выясняется жизненное поведение личности. Когда же такая попытка, как, может быть, в случае Леонардо, не приводит к правильным выводам, то вина здесь не в ошибочности или несовершенстве метода психоанализа, но в неточности и скудности материала, сведений, имеющихся об этой личности. В неудаче, следовательно, виноват только автор биографии, заставивший психоанализ работать с таким неудовлетворительным материалом.
Но, даже имея в своем распоряжении самый широкий исторический материал и при хорошем знакомстве с психическим механизмом, психоаналитическое исследование в двух важных пунктах не сможет доказать необходимости того, что индивидуум мог стать только таким, а не иным.
У Леонардо мы должны были принять, что случайность его незаконного рождения и страстная любовь к нему матери имели самое решительное влияние на образование его характера и его позднейшую судьбу тем, что наступившее после этой детской фазы жизни сексуальное вытеснение толкнуло его к сублимированию его либидо в страсть к познанию и установило на всю его жизнь сексуальную пассивность. Но это вытеснение после первого эротического детского удовлетворения не должно было необходимо наступить; у другого оно, может быть, не наступило бы совсем или выразилось бы в гораздо меньшей степени. Мы должны признать здесь известную долю свободы, которая не может быть предсказана психоанализом. Так же мало можно предсказать результат этого вытеснения как единственно возможный. Другому, может быть, не посчастливилось бы удержать главную часть либидо от вытеснения, сублимируя его в любознательность; при аналогичных обстоятельствах, как у Леонардо, он вынес бы продолжительную остановку в мыслительной работе или неодолимое предрасположение к неврозу навязчивости. Две особенности Леонардо остаются необъяснимыми психоаналитической работой: это его исключительная склонность к вытеснениям и его выдающаяся способность к сублимированию примитивных влечений.
Влечения и их превращения – это самое большее, что доступно психоанализу. Но дальше он уступает место биологическому исследованию. Склонность к вытеснению, так же как способность сублимировать, мы принуждены отнести к органическим основам характера, и уже на них воздвигается психическая надстройка. Так как художественное дарование и работоспособность тесно связаны с сублимированием, то мы должны прибавить, что и сущность художественной деятельности также недоступна для психоанализа. Современная биология склоняется к тому, чтобы объяснить главные черты органической конституции человека соединением мужского и женского начал в материи; красивая наружность, так же как и то, что он был левшой, дают для этого некоторые точки опоры. Но не будем покидать почву чисто психологического исследования. Целью нашей остается по-прежнему отыскивание связи между внешними переживаниями и реагированием на них личности с ее влечениями. Если психоанализ и не объясняет нам причины художественности Леонардо, то он все же делает для нас понятным проявления и изъяны его таланта. Думается все-таки, что только человек, переживший детство Леонардо, мог написать «Мону Лизу» и «Святую Анну», обречь свои произведения на столь печальную участь и так неудержимо прогрессировать в области знания, как будто ключ ко всем его созданиям и неудачам скрывается в детской фантазии о коршуне.
Но разве можно положиться на результаты исследования, которое приписывает такое выдающееся значение в судьбе человека случайностям положения родителей, судьбу Леонардо, например, ставить в зависимость от его незаконного рождения и бесплодия его первой мачехи донны Альбиеры? Я думаю, что этот упрек несправедлив; если считают случай недостойным решать нашу судьбу, то это просто возврат к миросозерцанию, победу над которым подготавливал Леонардо, когда писал, что солнце недвижимо. Мы, конечно, оскорблены тем, что праведный Бог и благое провидение не охраняют нас лучше от подобных влияний в самый беззащитный период нашей жизни. Мы при этом охотно забываем, что, в сущности, все в нашей жизни случайно, начиная от нашего зарождения вследствие встречи сперматозоида с яйцом, случайность, которая поэтому и участвует в закономерности и необходимости природы и не зависит от наших желаний и иллюзий. Разделение детерминизма нашей жизни между «не-обходимостями» нашей конституции и «случайностями» нашего детства в частностях еще нельзя определить; но в целом не может быть сомнения в важном значении именно наших первых детских лет. Мы все еще недостаточно преклоняемся" перед природой, которая, по неясным словам Леонардо, напоминающим речи Гамлета, «полна неисчислимых причин, которые никогда не подвергались опыту». Каждый из нас, человеческих существ, соответствует одному из бесчисленных экспериментов, в которых эти области природы должны быть подвергнуты опыту.
Примечания
36 С о n t i A. Leonardo pittore, по: Conferenze Florentine. P. 93.
37 Это же самое предлагает Мережковский, который сочинил, однако, детство Леонардо, отклоняющееся в существенных чертах от нашего, созданного из фантазии о коршуне. Но если бы сам Леонардо имел такую улыбку, то едва ли предание упустило бы познакомить нас с этим совпадением.
38 А. Константинова: «Мария смотрит с глубоким чувством на своего любимца с улыбкой, напоминающей загадочное выражение Джоконды», и в другом месте о Марии: «В ее чертах играет улыбка Джоконды».
39 О более крупной ошибке, которую Леонардо сделал в этой заметке, давши 77-летнему отцу 80 лет, я говорить не буду.
40 Видимо, Леонардо в этом месте дневника ошибся также в счете своих братьев и сестер, что стоит в странном противоречии с точностью заметки.
41 По Герцфельд, «Большой Лебедь» – это вершина Монте Цереро, около Флоренции.
42 См.: Вазари Дж. (перевод Шорна, 1843).
43 «Кроме того, он терял много времени, рисуя плетение из шнурка, где можно было проследить нить от одного конца до другого, как она описывала полный кольцеобразный узор; очень трудный и красивый рисунок этого рода выбит на меди со словами в середине: „Leonardus Vinici Academia“ (p. 8).
44 Это критическое замечание надо относить не специально только к биографии Леонардо.
раздел "Статьи"