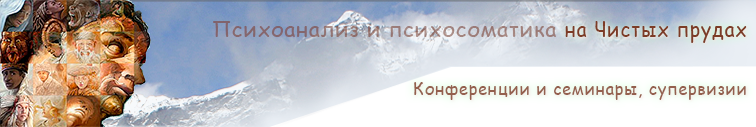Андре Грин Нарциссизм и психоанализ: вчера и сегодня*
* - Предисловие к книге «Нарциссизм жизни. Нарциссизм смерти» (1983)
Перевод с фр. и науч. ред.: А. И. Коротецкая
Андре Грин – французский психоаналитик (1927–2012) – титулярный член Парижского психоаналитического общества, почетный член Британского психоаналитического общества. Автор многочисленных книг и статей.
«Дай зеркало, и все я в нем прочту».
IV, 1
«В одном лице я здесь играю многих, Но все они судьбою недовольны».
V, 5
«Но, кем бы я ни стал, И всякий, если только человек он, Ничем не будет никогда доволен И обретет покой, лишь став ничем».
V,5
«Душа, с греховной плотью распростись. Твой трон на небе – отлетай же ввысь!»
V, 5, III
Шекспир. Ричард II
Предисловие
Aux heures du verger
Анализировать означает подчиниться компактной и зачастую смешанной массе фактов – к тому же отказываясь воспринимать их в кажущемся единстве дискурса и пытаясь дифференцировать их согласно такой оси, которая должна выявить другие, незримые составляющие объекта, в коих и выявляется подлинная его природа. Такая идеальная цель труднодостижима, мы удаляемся от объекта мира физического и стремимся приблизиться к объекту из мира психического. Происходит это по причине того, что объекты мира физического отвечают на наши вопросы пассивным образом, тогда как человеческие объекты реагируют активным сопротивлением, препятствуя своему раскрытию, если возможно использовать этот термин для описания результатов подобного исследования.
Одной из главных причин такой устойчивой оппозиции, когда анализ сосредоточен на Я, является нарциссизм. Цемент, поддерживающий целостность Я, собрал все его составляющие для достижения формальной идентичности, столь бесценной для чувства собственного бытия, как и для смысла, посредством которого он себя понимает в качестве существа.
Таким образом, нарциссизм является одной из самых яростных сил сопротивления анализу. Не является ли такая защита Единого, Одного, Цельного (l’Un) ipso facto отказом от бессознательного, подразумевающего существование части психики, которая действует от собственного имени и держит в узде империю Я? И тогда, не будь такой защиты, аналитический метод необходимым условием приведет к индивидуализированию существования Я и его функции? Потому что в этом мы находим еще одно препятствие для анализа человеческих объектов, ось и состав которых не даются прямому постижению разума в результате наблюдения и дедукции. И можно бы даже отрицать, что психоаналитическая теория проистекает из опыта, поскольку сетка интерпретаций, по-видимому, должна предшествовать пониманию, каким бы частичным оно ни было, психических событий и даже больше – структуры субъекта.
Для Фрейда нарциссизм оставался в некотором роде за скобками. Если сексуальность остается неопровержимой на протяжении всей теории создателя психоанализа, ее власть всегда оспаривается противоположной силой, понимание которой менялась с течением лет. До нарциссизма это были влечения самосохранения, после нарциссизма – влечение к смерти. В межцарствии между первой и последней теориями влечений нарциссизм понимался как следствие либидизации влечений Я, которые относились в ту пору к влечениям самосохранения. Безусловно, для Фрейда было решительным шагом привнести сексуальность в Я, когда, казалось, что оно избежало ее, сексуальности, хватки. Фрейд полагал, что нашел в нарциссизме причину недоступности некоторых пациентов психоанализу. Либидо, отвернувшись от объектов и вернувшись в Я, избегало переноса в любом смысле этого слова и, следовательно, какой-либо проработки психосексуальности, нашедшей убежище в неприкосновенном святилище. В то время Фрейд считал, что фундаментальное нарушение при психозах происходит от этого изъятия либидо, которое нашло больше удовлетворения в своем обретенном убежище, нежели в приключениях объектного либидо – источнике других удовольствий, а также и множества разочарований, угроз, неопределенностей.
Необходимо было, таким образом, открыть нарциссизм как подсистему психики, прежде чем появилась возможность определить его место в топике, динамике и экономике либидо. Такое измерение психической жизни не сразу утвердилось в психоанализе. Фрейду потребовалось почти 20 лет размышлений и опыта, прежде чем он предположил гипотезу касательно данного вопроса в своей основополагающей на эту тему работе: «О введении в нарциссизм» (1914). Для аналитиков это теоретическое приобретение казалось уместным и проясняющим; и каково же было их удивление, когда меньше через семь лет в работе «По ту сторону принципа удовольствия» (1921) Фрейд заявил, что эта уместность была иллюзорной, так как привела к монистической концепции либидо.
В целом нарциссизм оказался приманкой, тем более эффективной, что он подверг всю теорию соблазну, выражением которого он сам и являлся: иллюзия единства, возложенная на этот раз на либидо. Затем Фрейд решил положить конец поворотам своей мысли, предложив последнюю теорию влечений, противопоставляющую влечение (к) жизни и влечение (к) смерти. Гипотеза о влечении к смерти должна была спровоцировать противоречия. Сексуальность, в свою очередь, изменила статус. Отныне не сексуальные влечения, а влечение к жизни будет противостоять влечению к смерти.
То, что, казалось бы, было всего лишь нюансом, обернулось многими последствиями. Потому что перед призраком смерти единственным ее противником, остающимся на высоте, оказался Эрос – метафорическая фигура влечения к жизни. Что объединяет в себе это новое наименование? Сумма ранее описанных влечений, которые теперь собраны под единым началом, включает: влечение самосохранения, сексуальные влечения, либидо объекта и нарциссизм. В целом все составляющие прошлых теорий влечений – это не более чем подмножества, объединенные одной функцией: защита и осуществление (выполнение) жизни Эросом против разрушительного действия влечения к смерти.
Мы видим, в какой мере любовь, которая кажется само собой разумеющейся, являясь «естественной», подвергается нападкам со всех сторон. Она должна не только столкнуться с грозным противником, который всегда побеждает, но также страдает от разногласий, которые раздирают ее собственный лагерь, причем каждая из составляющих находится в конфликте с другими в рамках самого влечения к жизни. Итак, в самой жизни некоторые силы – сам принцип удовольствия! – непреднамеренно сотрудничают с влечением к смерти. Нужно было иметь смелость предложить психоаналитикам, все еще опьяненным аппетитом к завоеванию, принять эту непримиримую армию теней – сил смерти, что подрывало их терапевтические усилия.
То, что было вначале только предположением, которое не заставляло психоаналитиков принимать его, должно было – в течение лет подтвержденное клиникой, а также наблюдением социальных явлений – стать уверенностью, по меньшей мере для Фрейда, так как нельзя сказать, что в этом он имел последователей1. Аналитическое сообщество, похоже, было более склонно обсуждать теоретические нововведения Фрейда, чем проявлять приверженность новой теории, в которой нарциссизм занимал центральное место.
1 Abregel. В 1971 году Международная психоаналитическая ассоциация, которая отметит возвращение Фрейда в Вену в лице его дочери Анны по случаю Международного психоаналитического конгресса, предложила в качестве темы для размышления в ее научных дебатах агрессивность. Можно было констатировать, что через пятьдесят лет после «По ту сторону принципа удовольствия» почти все аналитики относились скептически к существованию влечений к смерти, кроме кляйнианцев. Однако последние придают ему совсем иное значение, чем Фрейд.
Еще одна причина забыть нарциссизм, как для Фрейда, так и для его учеников, может быть вызвана созданием второй топики, которая включала новый взгляд и переоценку Я. Это нововведение было принято гораздо лучше, чем влечение к смерти. Фрейд, казалось, хотел подорвать моральный дух своей армии, поскольку враг, который разрушал надежды на лечение, оказался практически непобедимым. Таким образом, можно было ожидать, в угоду новой концепции Я, возобновление проблем, которые ставит нарциссизм с точки зрения второй топики и последней теории влечений, в попытке интегрировать приобретения прошлого и открытия настоящего. Этого не случилось. Стремился ли Фрейд, безусловно упрекавший себя за то, что поддался влиянию Юнга, подчеркнуто порвать со своими прежними взглядами? Возможно. Но несомненно, что нарциссизм в его работах будет все больше и больше уступать территорию разрушительным влечениям. Очевиден пересмотр его нозографических взглядов: если ранее сфера нарциссических неврозов ограничивалась только меланхолией, или, если хотите, маниакально-депрессивным психозом, то теперь и шизофрения, и паранойя подпадают под этот же этиопатогенез. Что касается меланхолии, то она, оставаясь под юрисдикцией нарциссизма, была тем не менее теперь описана как выражение чистой культуры влечения к смерти. Таким образом, существует необходимость найти связи между нарциссизмом и смертью, об этом Фрейд не позаботился и оставил нам заботу этого открытия. Подавляющее большинство трудов, собранных в данной книге, явно или неявно рассматривает связь между нарциссизмом и влечением к смерти – то, что я предложил назвать «отрицательным нарциссизмом».
После Фрейда судьба нарциссизма раздваивается. В Европе работы Мелани Кляйн, полностью сосредоточенные на последней теории влечений Фрейда – она, возможно, единственный автор, который действительно серьезно воспринял идею деструктивных влечений, придавая им самое различное содержание, – игнорируют нарциссизм. Среди кляйнианцев только Х. Розенфельд попытался интегрировать нарциссизм в кляйнианские концепции, ни Х. Сегал, ни Мельцер, ни Бион не отводили ему места в своих теоретических разработках. В трудах Винникотта, несмотря на их глубокое отличие от теорий Мелани Кляйн, нарциссизму также не уделяется внимания.
Но на другой стороне Атлантики нарциссизм был возрожден из пепла, сначала под пером Хартмана, хотя и относительно случайным образом. Подлинное же возвращение нарциссизма в психоанализ связано с работами Кохута. Его книга «Анализ самости» (The Analysis of Self) снискала огромную популярность. Кохут вскоре создал свою школу, встретившую изрядное сопротивление. Прежде всего, со стороны тех, кто считал себя «классическими фрейдистами» – являвшимися на самом деле хартманцами, – не вполне понимавшими, на чем основана их оппозиция, потому что чтение Кохута позволяет включить его в последовательность Фрейда и Хартмана или, точнее, в то, как Фрейд интерпретируется Хартманом. Несомненно, есть пространство для дискуссий и о способах понимания материала, сообщенного анализантами, и о способах необходимого ответа на этот материал. Но возражения наступили и по другим причинам: Кернберг особо защищал концепцию объектных отношений, которая отчасти восходит к Мелани Кляйн – несмотря на критиков, которые оспаривают ее теории, – и в значительной степени к Эдит Якобсон, чьи работы недостаточно оценены. Более того, и Кохут, и Кернберг, оба очень оспариваются английской школой, при том что их фундаментальные постулаты очень различаются.
Все это не помешало Кохуту прослыть теоретиком, который преуспел в воскрешении нарциссизма. Ошибочно. Ибо, если бы психоаналитическое сообщество не игнорировало, иногда с проявлением неуважения, труды французского психоанализа, оно бы признало, что во Франции Кохуту предшествовал Грюнбержер. И если бы Лакан не был жертвой многолетнего остракизма, который был снят лишь недавно, можно было бы заметить, что нарциссизм является центральным элементом его теоретического аппарата. Послевоенное французское психоаналитическое движение всегда уделяло наибольшее внимание нарциссизму, хотя в этой области, как и в других, были представлены более или менее различные концепции. И тут, если мне будет позволено говорить о моем собственном вкладе, информированный читатель легко поймет, что точка зрения, которую я разделяю, отличается от позиций Лакана и Грюнбержера.
Вместо сожаления о том, что нет согласия по такому центральному вопросу, нам следует, напротив, радоваться, что теоретические построения, основанные на различном понимании, оживляют дискуссию по этой теме, ибо ясность происходит только из конфронтации идей.
Дискуссии о нарциссизме, имеющие место сегодня, по-прежнему основаны на проблеме, которую изначально поставили некорректно. Вопрос сводится к тому, можем ли мы приписывать нарциссизму автономию или должны рассматривать проблемы, которые он поднимает, как судьбу одного из множества влечений, необходимо находящуюся в тесной связи с судьбами других. Со своей стороны я не вижу необходимости выбирать между этими двумя теоретическими стратегиями. Действительно, клинические наблюдения позволяют нам думать, что существует множество нарциссических структур и нарциссических переносов, в которых нарциссизм находится в центре конфликта. Но ни один из них нельзя осмысливать и интерпретировать отдельно от других, пренебрегая как объектными отношениями, так и общей проблематикой отношений Я с эротическим и деструктивным либидо. Все это – вопрос суждения, это решение, которое аналитик вынужден нести в одиночку, не имея возможности в аналитической ситуации рассчитывать на какое-то мнение, кроме своего собственного, настолько ясного, насколько оно таковым может быть. И это суждение чаще всего является интуитивным, чтобы не сказать воображаемым.
Распространенность нарциссизма в некоторых клинических аспектах наводит на мысль, что в психическом аппарате должна существовать организация, достаточно сильная для того, чтобы собирать вокруг себя инвестиции одинаковой природы, которые при этом обладают различными характеристиками и заслуживают того, чтобы «быть отличаемыми» друг от друга. Это не обязательно означает, что формирование нарциссических структур следует совершенно отдельному развитию, обусловленному внутренними силами, независимо от объект-ориентированного влечения. Желание это прояснить должно подтолкнуть нас к решению того, что является причиной, а что – следствием в отношениях между Я-либидо и объектным либидо, особенно в свете последней теории влечений. Возможно, именно эта озабоченность причиной ответственна за некоторую путаницу в обсуждении. Ибо вместо того, чтоб в одержимости концепцией развития воссоздавать компоненты эволюции психического аппарата и определять те точки, о которые она спотыкается, было бы полезнее уточнить организацию клинических конфигураций и признать тип согласованности, которому они подчиняются, чтобы вывести оси, организующие психику. Чаще все попытки решить (во имя научности, отказывающейся признать высокую степень предположительности любой конструкции или реконструкции инфантильной психики), являются ли наблюдаемые проявления первичными или вторичными, сводятся к беспредметным поединкам, особенно в том, что касается нарциссизма, потому что мы не можем притянуть к этому какое-либо учение, поверяемое наблюдением, поскольку связанные с ним явления относятся к наиболее внутренним областям внутреннего мира субъекта. В точке, где мы находимся, эвристическая ценность противоречивых теорий оценивается в области клинических фактов, которые они могут восстановить и на учет которых они претендуют. Если клинические формы, которые можно привязать к архаическим функциям, бывают зачастую неясными, не всегда позволяя четко воспринимать различия, постулируемые в метапсихологии, маловероятно, что все явления, относимые к нарциссизму, являются продуктами преобразования влечений, которые были бы ему чужды. Оправданно предположение о том, даже если на настоящий момент картина и неясна, что существует некое преобразование влечений, чьи черты позже будут проявляться и раскрываться с полным расцветом характеристик, которые все обозначают как нарциссические.
Полностью признавая за нарциссизмом его право на существование в качестве полноценного понятия, тем не менее невозможно не поставить вопросы о его отношениях с гомосексуальностью (сознательной или бессознательной) и с ненавистью (по отношению к другому или к себе). Ясно, что, упоминая этих, самых ближайших «соседей», мы вынуждены принимать во внимание все остальные теоретические концепции психо анализа, которые относятся к объектным влечениям, к Я, к Сверх-Я, к идеалу Я, к реальности и к объекту.
Точно так же, если существует очень тесная связь между нарциссизмом и депрессией, как это заметил еще Фрейд, то мне кажется столь же бесспорным и тот факт, что проблемы нарциссизма выходят на передний план при неврозах характера – сколь бы неожиданным это ни было, и не только когда речь идет о выраженной шизоидности – при психосоматической патологии и, last but not least, в пограничных случаях. Слишком четкое различение нарциссических структур и пограничных случаев имеет как результат лишь их искусственное разделение, что достаточно скоро опровергается сложностью клинических проявлений. И это не говоря о нарциссической составляющей, неизбежно присутствующей в неврозах переноса. В сущности, как только конфликтующая организация касается регрессивных слоев, лежащих за пределами классических фиксаций, наблюдаемых в неврозах переноса, доля, которую занимает нарциссизм, оказывается более важной, даже в тех конфликтах, где он не находится в доминирующем положении.
В литературе часто поднимается вопрос об отношениях между нарциссической структурой и пограничными случаями, которые, похоже, в равной мере интересуют современных авторов работ по психоанализу. Небезынтересно отметить, что Кохут, ратовавший за автономию нарциссизма, четко разделил пограничные случаи и нарциссические структуры и посвятил последние годы своей жизни исключительно изучению нарциссических структур. В то же время Кернберг, который не соглашался с этим утверждением об автономии, признавая, впрочем, обоснованность клинического разделения, писал и о тех, и о других. Сторонники категории «нарциссизм», кажется, стремятся воздать ему почести, достойные божества, недооцененного в психоаналитическом пантеоне.
Что касается меня, я придерживаюсь той же позиции в вопросе о клинике, которую я отстаивал и в отношении теории. Думаю, трудно спорить с тем, что некоторые структуры заслуживают индивидуализации с точки зрения нарциссизма, однако, на мой взгляд, было бы неверно преувеличивать различия между нарциссическими структурами и пограничными случаями. Если, как я полагаю, нужно понимать пограничность как концепт, а не просто эмпирическим путем размещать borderlines на границах психоза, то как же нарциссизм может оставаться от этого в стороне?
Эти нозографические замечания не всегда приветствуются, я это знаю. И если я продолжаю обращаться к ним, то не только, как говорится, ради стенографирования клинических наблюдений, но и потому, что я убежден в наличии между метапсихологией и нозографией отношений более тесных, чем мы привыкли думать. Дело в том, что, так же как у нозографии нет другой задачи, кроме демонстрации связи между некоторыми совокупностями психических свойств, которые структурированы согласно своей особой кристаллической решетке – и здесь важна не наблюдаемая частота, а закономерное стремление постичь структурную четкость организующих моделей, – так и метапсихология, в широком смысле слова, имеет своей целью определение принципов функционирования, направляющих осей, функционально различающихся подмножеств, которые действуют совместно или противоположно друг другу.
Нозографию упрекали в том, что она отдает предпочтение структуре в ее фиксированном виде и не придает достаточного значения психическому динамизму, на котором аналитик основывает свои надежды на изменение психического функционирования анализанта. Возможно, это упрек, оправданный в отношении психиатрической нозографии, но он уж точно не обоснован в том случае, когда дело касается психоаналитической нозографии.
Потому что, если она действительно определяет некую когерентность в психопатологической организации и отличает ее в различных модальностях, она не менее озадачена пониманием того, как они, эти модальности, между собой взаимодействуют, а также как анализант при помощи переноса может перейти от одного к другому в регрессивном или прогрессивном смысле. Пренебрегая нозографией, аналитики предпочитают думать об уникальности их анализантов, что является необходимым отношением для того, кто проводит анализ личности. Это было бы деперсонализацией анализанта – думать лишь о его бессознательных конфликтах в терминах категорий и классификаций. В данном случае недовольство вполне понятно и закономерно. Но чтобы сосредоточиться на анализе специфики эдипова комплекса того или иного анализанта, сможем ли мы отрицать, что мы говорим про эдипов комплекс как про над-индивидуальную структуру? Возможно, такого рода возражение еще более объяснимо, когда речь идет о нарциссизме. Известно, что нарциссизм имеет плохую репутацию. Редко когда нарцисс получает хвалебное определение. Нарциссы раздражают, пожалуй, даже больше, чем перверты. Возможно, потому, что мы можем мечтать быть объектом желания перверта, в то время как нарцисс не имеет другого объекта желания, кроме себя самого. Нарцисс отрицает Эхо так же, как анализанты, которые-не-делают-перенос-великолепноигнорируя нас.
И здесь стоит напомнить ряд очевидных истин: нарциссы – травмированные субъекты, то есть испытывающие недостаток в собственном нарциссизме. Нередко то разочарование, раны от которого у них еще не зажили, связано не с одним из родителей, а с обоими. Кого же им в таком случае остается любить, как не самих себя? Конечно, нарциссическая рана, причиненная инфантильному всемогуществу, прямым способом или проецируемая на родителей, – это тот крест, который все вынуждены нести. Но известно, что некоторые никогда от этого не оправляются, даже после анализа. Они остаются такими же уязвимыми, а анализ позволяет им лучше использовать свои защитные механизмы для избегания ран, но они не смогли приобрести такую шкуру, которая у других занимает место кожи. Ни один субъект не страдает больше, чем нарцисс, оттого что его каталогизируют под общей рубрикой, ведь его заботой является быть не просто единственным, но и неповторимым, не имеющим ни предков, ни преемников.
Было бы легко упрекать психоаналитические концепции в том же, что и нозографию, и отрицать возможность существования нарциссической структуры и даже самого нарциссизма в качестве автономных организаций. Но в таком случае подобное необходимо предпринять по отношению к мазохизму и многим другим понятиям. Это возможность показать, что самое сильное выражение эротизма включает в себя замаскированные агрессивные цели и наоборот. Что же в таких случаях произойдет с аналитическими требованиями отделить, различить, изменить запутанную сложность, чтобы переделать ее, на основе ее неочевидных компонентов?
Метапсихология не имеет немедленных клинических и технических применений. Всем известны отличные аналитики, которые ее игнорируют более или менее нарочито. Что не мешает их аналитической практике основываться на бессознательной метапсихологии, которая направляет их размышления в сторону ассоциативной активности, «плавающей» более или менее внимательно. Метапсихология хороша лишь для обдумывания. И всегда в последействии, не в аналитическом кресле, но в кресле, в котором сидит аналитик перед белым листом, который стимулирует или подавляет его умственную деятельность.
Как я уже писал выше, то, что следует обдумывать сквозь призму нарциссизма, было бы немыслимо при полной изоляции этого понятия, при его изучении отдельно от всего остального. Для того чтобы лучше понять его природу, в некоторые моменты размышлений действительно лучше остаться с ним, с собственным нарциссизмом, наедине, то есть глубоко погрузиться в себя, поскольку он находится в самом сердце нашего Я. Он, собственный нарциссизм – та центростремительная сила, которая не желает знать ничего о наиболее глубоком внутри себя, так как там нет ничего другого, кроме личных догадок о собственном смысле при противопоставлении объекта и инстанции Я. Отношения последних сложны, так как понятие объектной связи включает для некоторых авторов также и нарциссические отношения Я с самим собой. Самая классическая теория допускает существование нарциссических инвестиций объекта еще до того, как Кохут предложил гипотезу self-objects (селф-объектов), которые являются лишь производными от нарциссизма.
Во всяком случае, существует один консенсус между сторонниками противоположных теорий; завершение созревания как Я, так и либидо проявляется, в частности, в способности Я признать объект как таковой, а не только как простую проекцию Я. Является ли это, так же как генитальные отношения, нормативной целью, которую необходимо привязать к идеологии психоанализа? Доступна ли такая цель способностям психического аппарата, находится ли она в пределах досягаемости психоаналитического лечения? Считаю, что в данном вопросе чрезмерный догматизм – как в ту, так и в другую сторону – быстро запускает непоследовательность. Ибо не более последовательным было бы утверждение полного, окончательного и неизлечимого отчуждения желания от его нарциссизма, что является не менее идеологически четким и столь же нелогичным, как и заявление о том, что рано или поздно объект предстанет в своем истинном обличье. Так или иначе помещение в перспективу Я (нарциссического) и объекта совершенно необходимо; она отражает все вариации спектра, от субъективного ослепления до истинной встречи.
Я задаюсь вопросом о том, может ли такое случиться, что, пока мы ни о чем не подозреваем, некая новая метапсихология, что-то вроде третьей топики, исподволь закрепится в психоаналитической мысли, и теоретическими полюсами ее станут самость и объект? Под давлением опыта у психоаналитиков появилась потребность в теоретической конструкции, более глубоко укорененной в клинике. Другими словами, мы не имели бы практику с одной стороны а теорию – с другой, теорию, которая являлась бы лишь – это не случай Фрейда – теорией клиники.
Таким образом, перенос не является более одной из концепций психоанализа наподобие других, он является условием, начиная с которого можно будет думать об остальном. И также – контрперенос не ограничивается лишь поиском нерешенных или непроанализированных конфликтов у аналитика, способных исказить его слушание; он становится коррелятом переноса, идя рядом с ним, индуцируя его, а иногда предшествуя ему.
Если за последние десятилетия в психоанализе возникло что-то новое, то искать его следует в области осмысления отношений в паре. Это позволило бы нам избавить теорию Фрейда от духа солипсизма. Стоит отметить, что при перечитывании трудов Фрейда часто складывается впечатление, будто все, что он описывает, как бы выходит на свет помимо его собственного взгляда или, если он описывает клинические случаи, помимо его действий. Когда он описывает психическую жизнь воображаемого ребенка, говоря о сексуальности или о Я, кажется, что этот ребенок следует по заранее заданному пути, а остановки, блокировки, смена направления, в сущности, лишь в малой мере связаны с его отношениями с родительскими объектами.
Короче говоря, Фрейд минимизировал одновременно и роль своего собственного нарциссизма, и нарциссизма объекта.
Формулируя вещи таким образом, мы не обязательно делаем их более ясными. Ибо реверанс в сторону клиники не говорит, о какой клинике идет речь. Если молчаливая метапсихология отношений самость – Soi-объект постепенно навязывалась, то это потому, что она лучше отражает клинические аспекты современного анализа, который классические модели фрейдистской теории освещают очень несовершенно. Иными словами, психология Фрейда слишком ограничена его референтом, неврозом – и прежде всего неврозом переноса. Тогда все происходило бы так, будто проблематика Я – Soi-объект лучше описывает не только пограничные случаи, но и нарциссические структуры, если не сказать именно их, поскольку противоположностью нарциссизма является неустранимость объекта.
Но было бы по меньшей мере странно настаивать на размежевании старого и нового в психоанализе, не попытавшись увидеть концептуальную преемственность, которая скрывается за внешним изменением. Так и хочется напомнить, что ничто не ново под луной, но точнее было бы сказать, что любая перемена наполовину менее нова, чем утверждают те, кто провозглашает ее.
Теория, которая опирается на опыт анализа невроза трансфера, отводит объекту центральное место в рассуждениях, рассматривая его как фантазматический объект или как объект желания. Теория, полученная из анализа пограничных случаев, продолжается, опираясь на фантазматический объект, но не может абстрагироваться от его отношений с реальным объектом. Ведь часто приходится констатировать, что участие объектов реальности сыграло свою роль в развитии психопатологии у субъекта; или, если выражаться более осторожно в плане этиологии и патогенеза, то достаточно сказать, что психическая структура субъекта свидетельствует о специфических отношениях между реальным объектом и фантазматическим объектом. Действительно, все происходит так, как если бы фантазматический объект, хотя и признанный в качестве объекта психической реальности, сосуществовал с реальным объектом, при этом последний обладал властью утверждать свое превосходство над другим. Как если бы двойная запись психических событий предоставляла ту же реальность фантазматическим объектам и объектам реальным2.
2 Мы считаем, что реальным объектом можно очертить не «реальность» вышеуказанного объекта, которая всегда непознаваема, а присутствие внутри субъекта дискурса, который, появляясь извне, способствует его отчуждению, накладываясь на его собственный дискурс. Правильнее было бы говорить об объекте извне, находящемся внутри, тем более что реальность некоторых травм, полученных внешним объектом, почти несомненна.
Что касается нарциссизма, объект, будь он фантазматическим или реальным, вступает в конфликт с Я. Сексуализация Я влечет за собой трансформацию желания, направленного на объект, в желание, направленное на Я. Это то, что я назвал желанием Одного со стиранием всяких следов желания Другого. Таким образом, желание меняет объект, поскольку Я само по себе становится объектом своего собственного желания; об этом переходе следует рассказать подробнее.
Что такое желание? Не ограничиваясь рамками известных определений, которых мы не помним, скажем, что желание – это движение, в ходе которого смещается центр субъекта3, то есть погоня за объектом удовлетворения, объектом нехватки порождает в субъекте переживание по поводу того, что его центр уже не находится в нем самом, что он располагается вне его, в объекте, отдельном от него, с которым он стремится соединиться, чтобы воссоздать свой центр, посредством единства – вновь обретенной идентичности – в благополучии, которое следует за переживанием удовлетворения.
3 Согласно определению Лакана.
Таким образом, желание – это то, что обусловливает осознание пространственной разделенности и временнóго несовпадения с объектом, создаваемых посредством отсрочки, необходимой для переживания удовлетворения. В дальнейшем на этой символической первоначальной матрице, источнике психического развития, многочисленные факторы будут чинить препятствия полной реализации желания. Перечислим лишь некоторые из них: развязывание влечений, бисексуальность, принцип реальности и, наконец, нарциссизм. Эта совокупность факторов управляется основополагающими табу, такими как фантазии отцеубийства, инцеста и каннибализма. Помимо этого заключения нам интересно рассмотреть те методы, которые используются для противостояния невозможности полной реализации желания.
При «первом» опыте нехватки решение находится через галлюцинаторную реализацию желания, такую как иллюзия, возмещающая отсутствие объекта. Эта модель будет обогащаться в дальнейшем при фрустрациях, которые уже будут связаны не только с поиском груди. Мы уже подчеркивали, что это решение неидеально, что нужно выработать другие варианты, более подходящие для подлинного удовлетворения. Но как таковое оно является психической реализацией, тем более ценной, что в глазах ребенка именно благодаря ему объект-грудь появляется снова. Он не в состоянии понять, что мать пришла к нему на помощь, потому что он кричал и плакал, но устанавливает причинно-следственную связь между галлюцинаторной реализацией желания и испытываемым удовлетворением.
Если жизненные потребности обеспечиваются в других ситуациях нехватки со стороны объекта, то находятся и иные решения: самое фундаментальное – это идентификация. Она отменяет репрезентацию объекта, Я сам становится этим объектом, смешиваясь с ним. Способы идентификации разнятся в зависимости от возраста. Вначале первичная идентификация называется нарциссической, так как Я сливается с объектом, который является скорее продолжением самого Я, чем отдельным существом, отличность которого несомненна. Если этот способ нарциссической идентификации продолжает действовать и за пределами слияния с объектом, когда Я отделяется от не-Я и принимает отдельное существование объекта, то такой способ функционирования чреват для Я множеством разочарований. Непризнанная отдельность бесконечно порождает у Я опровержения относительно того, чем якобы является объект, и неизбежно влечет за собой все новые разочарования в том, чего от него, от объекта, ожидается. Таким образом, Я не может рассчитывать на объект для обретения единства-идентичности, способного присоединить его к своему центру при переживании всегда недостижимого удовлетворения. Тройственный характер отношений только осложняет эту ситуацию, поскольку нередко оба нарциссически инвестированных родительских объекта разочаровывают Я, каждый по своим причинам. Все это губительно для Я, так как фундаментальное переживание смещения в поисках замещающего объекта, который залечил бы раны, нанесенные первоначальным объектом, заканчивается неудачей, а вся череда перемещений за объектами-субститутами, от самых персонализированных до самых безликих, заставляет заново переживать то первое поражение4. Всякий контакт с объектом обостряет чувство смещения центра либо в отношении пространственного отделения, либо в смысле временнóго несовпадения. Эго-синтонию Я нужно искать лишь в инвестировании Я его же собственными влечениями: это положительный нарциссизм, следствие нейтрализации объекта. Достигнутая таким образом независимость Я от объекта очень ценна, но неустойчива. Потому что Я никогда не может полностью заменить объект. И хотя он пытается поддерживать иллюзию на сей счет, находя удовольствие от существования в одиночестве, пределы этой операции начинают ощущаться очень скоро. И тогда нужно, чтобы инвестирования Я обогащались другим инвестированием, направленным на полностью идеализированный объект, с которым он сольется точно так же, как сливался ранее с первичным объектом. Только таким образом можно наконец достигнуть умиротворения от единения с Богом, разом отбросив простые земные радости.
4 Чрезвычайно важно понимать, что эти перемещения неизбежно приведут лишь к выработке несовершенных решений, всякий раз более или менее неудовлетворительных – что ж, такова жизнь! – только и остается сказать. Дело в том, что возвращение к переживанию вступительного удовлетворения является фантазией, конструируемой постфактум, а попытка воссоздать его – не более чем мираж. Но в том числе и из-за этого либидо пребывает в постоянном поиске новых инвестиций, содержащих более или менее сублимированное удовлетворение влечений.
На этом можно было бы и остановиться. Однако клиническая практика показывает, что такие реализации нарциссизма жизни никогда не удаются в полной мере. В некоторых случаях комбинированный эффект непреодолимой пространственной дистанции и нескончаемого временнóго несовпадения превращают переживание от смещения центра в испытание обидой, ненавистью, отчаянием. При этом возврат к единению или смешение Я с идеализированным объектом уже недоступны. Следовательно, это активный поиск не единения, а небытия, то есть снижения напряжений до нулевого уровня, что близко к психической смерти.
Таким образом, нарциссизм создает почву для мимесиса желания через решение, которое позволяет избежать такой ситуации, при которой смещение центра вынудило бы к инвестированию в объект, объединяющий в себе условия для достижения центра. Я приобрело определенную независимость, переведя желание Другого на желание Одного. Этот мимесис может даже предстать в противоположной форме, убрать ограничения модели желания, когда нарциссизм не приводит к достижению единства. Он становится мимесисом нежелания, желания не желать. В данном случае поиски центра забыты из-за его уничтожения. Центр в его качестве цели достижения полноты становится пустым, полым центром. Поиск удовлетворения продолжается вне всякого удовлетворения – как будто оно когда-то было, – как будто оно обрело свое благо в отказе от всякого поиска удовольствия.
Именно здесь смерть принимает облик абсолютного существа. Жизнь становится равнозначна смерти, поскольку представляет собой освобождение от любого желания. Неужели эта психическая смерть маскирует собой желание смерти объекта? Думать так было бы ошибочно, поскольку объект уже был убит на пороге этого процесса, который следует отнести на счет нарциссизма смерти.
Негативная галлюцинаторная реализация желания стала моделью, регулирующей психическую деятельность. На смену удовольствию пришло не неудовольствие, а Нейтральность. Здесь нужно вести речь не о депрессии, а об афанизисе, аскетизме, жизненной анорексии. Таков подлинный смысл работы «По ту сторону принципа удовольствия». Метафора возвращения к неживой материи сильнее, чем можно подумать, поскольку это окаменение Я предполагает анестезию и инерцию в психической смерти. Это всего лишь апория, но такая, которая позволяет постичь цель и смысл нарциссизма смерти.
Следовательно, нарциссу Янусу свойственен миметизм как жизни, так и смерти, и он принимает призрачное решение сделать из жизни или из смерти абсолютно закрытую пару. Мы лучше понимаем, почему Фрейд отвернулся от нарциссизма, в котором увидел источник недоразумений. Однако замещение одного понятия другим меняет слово, но не суть.
И тогда Нейтральное поднимается во весь рост, бросая вызов мысли. Все становится сложнее с того момента, как нам приходится осознать, что Нейтральное – это также и реальность, безразличная к кипению человеческих страстей. Нейтральное есть пространство той беспристрастности интеллекта, о которой говорил Фрейд, когда заявил о существовании влечения к смерти. Нарциссизм – это понятие, а не реальность. Потому что последняя, даже когда становится клиникой, всегда отличается сложностью, с трудом поддающейся осмыслению. Она гиперсложна, как принято говорить в наши дни.
Непреодолимая апория психоаналитической теории заключается в постоянном наложении друг на друга описательного и понятийного уровней, которое можно обнаружить при чтении трудов психоаналитиков. Нет ни одного аналитического трактата, в котором не ощущалось бы постоянное перетекание из одного плана в другой. Чистое описание невозможно, поскольку оно в большей или меньшей мере подчинено невысказанным, а то и неосознанным концептам. Едва ли проще представить себе столь же чистую концептуализацию, так как читатель проявляет заинтересованность лишь при том условии, что чувствует, как в нем просыпаются воспоминания о его анализах или собственном анализе. Благое намерение теоретика неизменно осознавать, на каком уровне находится его мысль, способная переходить от описания к концепту и от концепта к описанию, нередко оказывается за пределами возможностей автора.
Если стремление к точности, не свободное от множества предрассудков, заставляет аналитика предпринимать упорные, хотя и питаемые иллюзиями, попытки приблизиться к естественным наукам, то, я полагаю, оно никогда не выйдет за пределы физики и всегда будет оставаться в стороне от чистой математики, хотя бы из-за самих условий его работы. Но для того, чтобы отвергнуть псевдонаучные притязания отдельных психоаналитиков – частенько североамериканские специалисты говорят о the science of psychoanalysis, что, как ни странно, напоминает рекомендации, которые давал своим ученикам Лакан, – не стоит спешить с выводами о том, что якобы психоанализ есть чистой воды поэзия. В самом деле, в психическом функционировании аналитика есть нечто, отсылающее к мифологическо-поэтическому началу, не зря Фрейд и психоаналитики его школы всегда находили в поэзии мифа и литературы один из двух источников психоанализа, предлагая искать другой его источник в биологии. В конечном счете миф о Нарциссе имел не последнее значение для появления нарциссизма, а его способность вызывать ассоциации служила подпиткой для клинических описаний Некке. Может быть, биология поэтичнее, чем мы думаем, а поэзия теснее связана с «природой» человека, чем принято считать.
Но как только мы пытаемся осмыслить психоанализ отдельно от биологии, психологии и социологии, делая это метафизически, не поддаваясь комбинированному соблазну как псевдонауки, так и псевдопоэзии, мы приступаем к теоретической работе, несомненно, всегда носящей временный характер, и встречаемся с ее ограничениями за счет взаимного наложения описательного уровня и концептуального уровня.
Нарциссизм более, чем любой другой аспект теории, таит в себе опасность смешивания в одно целое и описания, и концепта. Это потому, что он, если можно так сказать, является зеркальным концептом, концептом, который из единства Я, из его красивой формы, из желания Одного (Единого), противоречащего самому себе – вплоть до его уничтожения, возможно, – делает вывод о существовании бессознательного и расщеплении Я, разделенном состоянии субъекта. Нарциссизм как таковой ждет лишь признания этой индивидуальности, этой непохожести, этой полноты. Поэтому следует подключить концепт Один (Единый), печатью которого отмечен нарциссизм. Эта единица, которая дается непосредственно в чувстве существования, в качестве отдельной единицы, является, как известно, завершением долгой истории, идущей от абсолютного первичного нарциссизма до сексуализации влечений Я. Это – одна из реализаций Эроса по успешному объединению раздробленной, разрозненной, анархичной психики, в которой доминирует удовольствие органа частичного влечения, за которым следует осознание себя, хотя бы частично, как целостного, отдельного существа, имеющего свои границы. Но как же дорого приходится платить за это достижение, за возможность быть только Я. Здесь следует обратиться не столько к трудам психоаналитиков, сколько к наследию Борхеса, который лучше, чем кто бы то ни было, понял, насколько болезненна рана неспособности быть Другим. Но нам следует понять, что на пути от примитивной диады «мать – ребенок» до единого Я происходит целая совокупность операций: разделение двух частей этой пары, вызывающее у ребенка тревогу из-за отделения; угроза распада и преодоление «выученной беспомощности» через создание объекта и «нарциссированного» Я. Этот последний находит в любви к самому себе компенсацию за утрату любви-слияния, которая выражала его отношение к неотделимому объекту. Таким образом, нарциссизм представляет собой следствие не столько связи, сколько повторной связи. Нередко он вводит в заблуждение, убаюкивает себя иллюзией самодостаточности, так как теперь Я составляет пару с самим собой, через свой образ.
Следовательно, Один (Единый) – непростой концепт. Если его нужно подключить, то, чтобы это сделать, недостаточно обозначить его антагонизм, понятия Другой и даже Нейтральное, а необходимо еще и вместе с Одним (Единым) думать не только о Двойном, но и главным образом о Бесконечности хаоса и Нуле небытия. Один (Единый) рождается, быть может, из Бесконечности и Нуля, так как они могут... создать лишь Одного. Но именно в колебаниях между Одним и Нулем мы должны рассматривать внутреннюю проблематику нарциссизма, и пусть нас не обескураживает тот факт, что если Один дается непосредственно через феноменологическое восприятие, то Ноль никогда не постигается, речь идет о себе, так же как бессознательное не в силах репрезентировать смерть.
Концепт не всегда избегает метафорического осмысления. Как раз таким образом мы и должны будем рассуждать, когда нам придется говорить о Нуле. Однако кривая будет асимптотной, поскольку мы всегда сможем говорить только о «тенденции» к снижению до нулевого уровня возбуждения, то есть жизни. Это подходящий момент для того, чтобы вернуться к разнице между описательным и концептуальным подходами. На уровне концепта и только концепта, в отрыве от описания, мы будем говорить о стремлении к психической смерти, чтобы пролить свет на клинические проявления, которые кто-то мог бы понять иначе. Тот факт, что нулевая точка имеет отношение к бессмертию, лишь слегка затрагивает сложность проблемы.
Мне неприятно упоминать здесь входящие нынче в моду восточные философские течения, поскольку я почти ничего не знаю о них. Но та не слишком большая информация, которой я владею, заставила меня обратить внимание на очевидный факт. Не претендуя на полномасштабное обобщение, которое сложно было бы поддержать, мы должны признать, что многие люди на нашей планете живут в соответствии с базовыми принципами философии, детали которой им вовсе не известны, но которая пронизывает собой их образ жизни и мировоззрение. Оставаясь на западноцентристских позициях, Фрейд, который заставил нас пересмотреть некоторые наиболее устойчивые понятия, возможно, имел в виду именно это ограничение, когда решил принимать во внимание принцип нирваны, позаимствованный им у Барбары Лоу. Нетрудно показать, что сделанные им теоретические выводы очень далеки от того, чему учит метафизический Восток, столь отличный от западной философии, что можно усомниться, действительно ли речь идет о философии. Так или иначе я говорю с позиций психоанализа, а не философии, поскольку эта сфера мне не близка. Если я между делом упоминаю о ней, то лишь для того, чтобы заметить, что некоторые детали, представленные в этой работе под названием «негативный нарциссизм», уже становились предметом философского осмысления в культурах, чьи традиции очень далеки от наших. Эти философские размышления подчиняются требованиям своей системы координат, которая неприменима к психоанализу. Но ведь они же стали порождением чего-то, внимания к отдельным аспектам психической жизни, которые в рамках западной мысли, как правило, оставались в тени, или же если и выходили на свет, то давали повод лишь для робких рассуждений. Здесь как будто бы недостает свободы мысли, которую тормозят невнятные опасения, уже заставлявшие отступить тех, кто позволил себя увлечь, и останавливавшие тех, кто пытался вернуться к ним и настаивать на своем. Что касается меня, мне кажется почти бесспорным тот факт, что психоаналитические размышления и практика подталкивают аналитика к напряженности между Одним и Нулем, и не всегда очевидным образом. Может быть, мне стоило бы подождать до тех пор, пока я сумею сформулировать свои наблюдения точнее, чем делиться с ними так, как я это сделал в первый раз.
Вынесение на суд общественности целой коллекции статей, самые давние из которых были написаны свыше 15 лет назад, не может дать автору полного удовлетворения, даже если он лелеет надежду на то, что эти тексты еще небезынтересны читателям. Мы не станем принимать обычных для сборников такого типа мер предосторожности – слишком уж точно они соответствуют стереотипу. Однако мне кажется, что мы уделяем недостаточное внимание одному из тех умозаключений, которое можно сделать при чтении ранее опубликованных трудов, собранных под обложкой одной книги. Мы можем увидеть, как работает странный феномен, который порой отличает пишущих аналитиков. Я имею в виду теоретический процесс, столь ярко выраженный у Фрейда и менее отчетливо прослеживающийся у других авторов работ по психоанализу. Речь идет о развитии в течение многих лет того концептуального пути, который строится на тех же основах, что и так называемый психоаналитический процесс в практической области. Мы с полным на то основанием замечаем, что не следует слишком усердствовать, разделяя аналитический процесс и трансфер. В этом смысле стоило бы рассматривать теоретический процесс как эффект трансфера, оказываемый психоаналитическим процессом на психическое функционирование аналитика при написании работы. Велико ли будет отличие от продолжения самоанализа аналитика через его собственный опыт психоанализа? Если можно так думать, если невозможно так не думать, то нужно остерегаться замкнутости в фундаментальном субъективизме, который способен пропитать собой теоретические рассуждения, что привело бы к радикальному скептицизму, приносить жертвы которому нынче стало так модно.
Можно усомниться в том, что теория психоанализа вообще способна когда-нибудь достичь объективности, не впадая в субъективность в том или ином ее виде, но не стоит и позволять себе заподозрить ее в том, что она якобы есть всего лишь защита от безумия, ведь то же самое можно сказать о любой мысли. Скорее в психоанализе следовало бы подчеркивать оригинальный характер движения к объективности; этому надо бы уделять большее внимание, а не делать поспешных заявлений о тщетности любых попыток достичь объективности, не осознавая, что, делая это, мы подчиняемся исключительно Zeitgeist.
Если вся аналитическая теория исходит из анализа трансфера, то понятно, что при ее формулировании неизбежно обращение к контрпереносу, при условии, что он (контр-трансфер) в своем бессознательном не подвергнет ее кодированию. Однако наряду с анализом трансферов (пациентов) и контрпереносов у аналитика находится место и для переноса своей «анализируемости» на психоанализ, рассматриваемый в момент написания работы как нечто безличное, тем более что написанный им текст обращен к некоему обезличенному аналитику, знакомому или незнакомому, в прошлом или в будущем. Если мы станем искать сравнения внутри самой аналитической теории, то нам хорошо бы вспомнить, что Оно и Сверх-Я являются носителями той же самой безличности: первому она присуща в начале, а второму – в конце. Не нужно привязывать объективирующую субъективность к тому очень личному, что есть у аналитика, или, в других случаях, к тому, как эта «личность» о многом говорит другим. В этом нет ничего удивительного, поскольку склонность этой аналитической субъективности к объективации всегда обусловлена речью другого. Если субъект хочет быть услышанным другим субъектом, то субъективность слушания никогда не теряет из виду того факта, которому она, впрочем, никогда не может дать исчерпывающего объяснения, что выразительную нагрузку несет на себе голос того, кто высказывается. Какой бы притягательностью он ни обладал, аналитик обязан позаботиться о том, чтобы не слышать этот другой голос как эхо. И если он в самом деле часто попадает в ловушку, ошибочным было бы полагать, что это неминуемо. Ведь существует не только нарциссизм.
Август 1982 года
раздел "Книги"