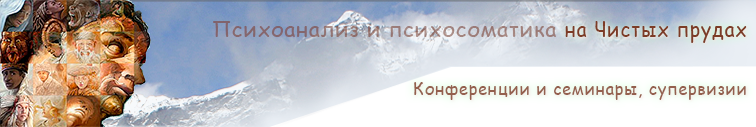Франсуаза Дольто, Бессознательный образ тела.
Схема тела и образ тела
В начале моей практической деятельности в качестве детского психоаналитика (1938) моим консультантом была Софи Моргенштерн, первый французский детский аналитик 1. Тогда я предложила детям, желающим вместе со мной понять, что было причиной — неведомой им — их трудностей в жизни, бумагу и цветные карандаши. Позднее я добавила пластилин.
Рисунки, выбранные цвета, формы — вот средства спонтанного самовыражения для большинства детей. И они любят «рассказывать» с помощью рук про мир своих фантазмов; они вербализируют свои рисунки и слепленные формы тому, кто их слушает. Иногда без всякой логической (с точки зрения взрослых) связи с тем, что в этом может увидеть взрослый. И самое удивительное, что постепенно в результате этой работы у меня сложилось представление, что инстанции фройдовской теории психического — Оно, Я и Сверх-Я — обнаруживаются в любой свободной композиции, будь она графической (рисунок), пластической (лепка) и др. Эти детские произведения являются настоящими проявлениями фантазмов, в которых можно декодировать структуры бессознательного. Они декодируются через слова ребенка, который антропоморфизирует, дает жизнь разным частям своих рисунков, как только начинает говорить об этом с аналитиком. И это свойственно именно детскому психоанализу: то, что у взрослых дешифруется на основе ассоциации идей по поводу рассказываемого сновидения, у детей обнаружи- вается через их высказывания об изображениях или пластических композициях, отражающих их фантазмы и игру воображения в переносе.
1 Покончила жизнь самоубийством в 1940 г., когда немцы вошли в Париж.
Посредник этих трех психических инстанций (Оно, Я, Сверх-Я) в аллегорических репрезентациях, даваемых субъектом, оказался специфичным. Я назвала его «образ тела».
Пример 1. Два рисунка ребенка примерно 11 лет, страдающего тяжелой формой тика.
Первый рисунок: конь, голова которого выходит за рамки листа бумаги, на нем всадник, он борется с врагом; его целиком не видно, но видна шпага в верхнем левом углу рисунка. В нижнем правом углу виден ядовитый змей, который собирается, как говорит ребенок, ужалить коня всадника. На этом рисунке у коня нет головы, у всадника есть голова.
Второй рисунок (сделан на одном из других сеансов). Он представляет собой вариант предыдущего мотива. Голова всадника полностью не входит в поле листа бумаги. У коня есть голова, но на рисунке нет места для хвоста. Вместо змея — голова тигра в нижнем левом углу, и она готова атаковать коня. На самом деле, голова тигра находится на том месте, где должна быть голова коня, но на более низком уровне.
Мальчику, рассказывающему по просьбе аналитика о рисунке, предлагается поставить себя на место каждого персонажа и, находясь в том месте, вообразить, что он мог бы чувствовать.
Тогда появляются друг за другом голова, означающая оральное пожирание, — это голова тигра, голова контроля анальной мускулатуры, представленная головой коня, и голова умелости всадника, которая представляет человеческое существо. Эти три головы способны меняться местами, учитывая, что исключен факт их одновременного присутствия в поле рисунка. Всадник постоянно в опасности, которая представлена либо оральностью, являющейся частью тела (тигр), либо ядовитым змеем, находящимся позади, как теллурические и анальные силы, способные отомстить индивиду. И в то же время в него метит шпага человека, расположенного выше на иерархической лестнице.
Позднее в заключительных рисунках ребенка опасность представлена в виде громоподобной молнии, способной уничтожить одновременно всадника, коня, а также — по возможности — других присутствующих животных и тех, кто находился в конфликте с этими живыми инстанциями. Конфликт фигурирует в виде атаки.
Экспликация этих различных опасностей помогла через свободные ассоциации узнать о врагах, грозах, опасностях яда, опасностях пожирания, поскольку эти фигуративные темы были связаны с семейной драмой.
За смертью дедушки ребенка по отцовской линии последовали семейные конфликты, связанные с наследством. Причем отец ребенка был свидетелем попытки убийства старшим братом одного из своих братьев. Ребенок оказался в курсе событий, услышав случайно разговор родителей, когда он, находясь в гостях у бабушки с дедушкой, спал вместе с ними в комнате. Все это очень резко отпечаталось в его представлениях: оральная жадность до наследства, табу на убийство и испытанное им удивление, когда он услышал, как родители в супружеской постели с сочувственным шепотом говорят об убийце. К счастью, тот лишь ранил брата — всем было сказано о несчастном случае на охоте. При этом мальчик слышал, как родители договариваются о неразглашении тайны. С момента похорон дедушки у ребенка проявился тик.
Мы видим, как благодаря серии рисунков анализ воспоминаний и ассоциаций, бессознательно проявившихся в рисунках, позволил высвободить то, что представлялось мальчику как неразрешимые противоречия, что не давало ему держать голову и в то же время сохранять мышечную энергию и управлять поведением. Он оказался немым свидетелем, а значит, сообщником разговора родителей, что дезориентировало его как человека по отношению к кодексу Закона. Но главное, что позволяет понять возможности, даваемые детским психоанализом, — это то, что он предоставляет данные для интерпретации, содержащиеся в словах относительно фантасмагорических рисунков. Это он — змея, которая так думает, он — голова тигра, представляющего опасную мать (отец называл ее тигрицей), с которой он себя идентифицирует и которая представляет опасность для коня, репрезентирующего в данном случае его отца.
Шпага Бога и молния с неба в других рисунках появляется как знак осуждения ребенка, она ранит его в его человеческом становлении: он оказывается в ситуации, что надо судить отца, пособника своего дяди. Он чувствует себя виноватым перед лицом Закона, потому что он услышал из речей родителей, что они — особенно отец и в меньшей степени мать, которая испытывала тревогу от утаивания правды, — в своем желании преступили, нарушили закон, и он выступает как ребенок инцеста, будучи случайным свидетелем их разговора в супружеской постели в доме отцовского клана.
...
В качестве примера приведем ситуацию, где репрезентативной опорой служит лепка.
Пример 3. Молодой человек, учащийся лицея, 14 лет, блестящий ученик, но «очень нервный», был приведен на консультацию. В лицее жаловались на то, что он бьет ногами по столу так сильно, что развязываются шнурки. У его матери, которая привела его на консультацию, у самой ноги оказались в синяках, с ранами на уровне берцовой кости. Она показала мне свои ноги и сказала, что из-за его необычной привычки отбиты ножки кровати с той стороны, где она спит, а также ножка стола с той стороны, где она обычно сидит.
На первой встрече все, что мальчик смог мне сказать о симптоме, сводится к словам: «Я не могу делать иначе, это сильнее меня...». —
«Но как происходит, что Вы нападаете на мать, а не на отца?» — «Я не знаю, я же не нарочно».
Рисовать он отказался и выбрал лепку. Он очень артистично слепил старинный колодец. Я спросила у него: «Что Вы можете сказать по поводу колодца?» — «В глубине есть вода. Это колодец старых времен. Сейчас больше нет колодцев». — «Да. А что говорят еще иногда о том, кто прячется в колодце?» И у нас заходит разговор o колодце и о правде, которая, как говорят, из него выходит совсем голая. В конце приема начинаем обсуждать время последующих визитов. И молодой человек, вполне самостоятельный, мне говорит:
«Нужно спросить у мамы». — «Почему нужно спросить у мамы, разве Вы не знаете, когда свободны?» — «Нет, нужно спросить у мамы».
Заходит мама и садится слева от него. В то время как она говорит мне о днях следующих визитов, молодой человек берет правую руку матери в свою левую руку и начинает гладить ее указательным пальцем внутреннюю поверхность слепленного колодца, в то время как она продолжает со мной говорить, не обращая, по всей видимости, на это внимания. Вместо того чтобы отпустить его с матерью, я ей говорю: «Будьте добры, подождите минутку, мне есть, о чем поговорить с Вашим сыном». Она выходит, а я спрашиваю у мальчика: «Что означает движение указательного пальца в колодце, которое вы заставили сделать Вашу маму?» — «Я? Как? Я не знаю...» (у него удивленный, даже оторопевший вид). Он говорит так, как будто забыл или ничего не заметил. Тогда я ему рассказала, что он делал. И я добавила: «О чем Вы в этот момент думали, когда палец Вашей мамы был в колодце?» — «А, да... Я не могу идти в туалет. Мама мне не разрешает ходить в туалет в лицее, потому что надо, чтобы она видела, проконтролировала, как я покакал». — «Зачем? У Вас есть проблемы с кишечником? Давно?» — «Нет, она так хочет, и она мне устраивает сцены, если я какаю в лицее». — « Позовите Вашу маму».
Мать заходит, и оказывается, что она также не обратила внимания на то, что он проделал с ее пальцем в колодце. Я ей сказала, что ее сын (присутствующий при разговоре) рассказал мне, что ей необходимо проверять, как он покакал. «Ну и что? Разве долгом матери не является поддерживать нормальное функционирование организма своих детей? Даже моему старшему сыну (21 год) я массирую анус всякий раз, как он оправится». — «Да? И почему?» —
«Мне так велел делать доктор. Когда моему старшему сыну было 18 месяцев, у него было выпадение прямой кишки, и доктор мне велел массировать анус после каждого опорожнения, чтобы вправить прямую кишку».
Вокруг этой проблемы и сформировалась в пред пубертатном, а сейчас и в пубертатном возрасте т. н. нервная болезнь четырнадцатилетнего мальчика. Мать не допустила, чтобы его вегетативное функционирование стало автономным.
Мальчик выражал таким образом свою ревность к своему старшему брату, имевшему право на прерогативы анального массажа матери, в то время как его экскременты подвергались лишь визуаль- ному контролю: ему «не повезло», у него не было в младенчестве выпадения прямой кишки.
Колодец был проекцией частичного образа анального тела. Он представлял собой прямую кишку мальчика и соединял представление о сексуальности женщины с наслаждением от испражнения. По сути дела мальчик остался на уровне анальной сексуальности, фиксированной матерью, не подозревающей о своем перверсивном желании инцеста по отношению к своим сыновьям и прикрывающейся медициной и «долгом» матери поддерживать «хорошее функционирование» тела-объекта своих детей.
Благодаря этому можно также понять значение моторного симптома агрессии, выражаемого ударами ноги. Моторика, являясь выражением — в случае ее адаптированности к социуму — сублимированного анального удовольствия, была у мальчика извращена. Оба его нижних члена были здесь и действовали в симптоме как субститут третьего нижнего члена — пениса. Он бил по ногам матери ступнями, будучи лишен возможности проникнуть в ее вагину своим пенисом.
Становится понятно, как проявлялось соперничество со старшим братом. Он представлял собой весьма несовершенным образом Я-Идеальное, являясь в большей степени регрессивной моделью, место которой младший хотел бы занять в своем ощущении маленького мальчика.
Пример 4. Речь также идет о лепке. Восьмилетний ребенок на одном из сеансов слепил кресло. Я задала ему вопрос: « Куда бы ты его поместил?» — «На чердак». — «Но у него очень прочный вид. Такие прочные кресла не убирают на чердак». — «Да, действительно».
«Тогда кем бы было это кресло, если бы оно было человеком?» —
«Дедушкой... Потому что говорят, что он старый и не хочет умирать».
«Ну и что, это досаждает, что он не умирает?» — «Да, потому что в доме нет места, и мы вынуждены жить в одной комнате с мамой и папой. Он не хочет, чтобы с ним в одной комнате кто-нибудь спал».
Итак, занимающий место старый человек живет в семье, куда его в надежде, что он скоро умрет, взяли родители. Старик парализован и прикован к креслу. Его бы охотно поместили вместе с другой рухлядью на чердак. Кресло замещает надоевшее и хорошо сохранившееся тело старика, мешающего жить семье, стесненной в жилищных условиях. Очевидно, что никогда ребенок не смог бы рассказать по-другому эту историю. Благодаря лепке, которая реализовала фантазм, проявивший анальную фиксацию к сидению, — и это буквально говоря, так как у ребенка появилось недержание кала. Именно недержание кала привело его на консультацию к психотерапевту.
Здесь вновь мы наблюдаем, как ребенок через пластические формы очеловечивает выделенные Фройдом психические инстанции.
Дедушка, в частности, воплощает анальное Сверх-Я (чувство вины за «делать», «действовать», имеющими динамический, развивающий характер). Проблема состояла в том, чтобы низвергнуть этого человека, оберегая его и уважая. Возможно, это и было причиной, в силу которой у ребенка были задержки кала, который потом выделялся без всякого контроля сфинктера. В то же время он сам попадал в сублимации оральных и анальных влечений, в ментальные манипуляции, каковым является для ребенка обучение в школе.
Эти примеры интересны тем, что показывают нам, как в любой свободной композиции являет себя, выражает себя образ тела: даваемые ребенком ассоциации актуализируют конфликтное сочленение трех инстанций психического аппарата.
У детей (и у психотиков), которые прямо не могут излагать свои сновидения и фантазмы, как это делают взрослые в свободных ассоциациях, образ тела является для субъекта медиатором их выражения, а для аналитика — средством их распознавания. Стало быть, это является сообщением, которое надо декодировать, к которому только у психоаналитика нет ключа. И этот ключ дается в ассоциациях ребенка. Именно через них аналитик приходит к самому себе. Это он приходит к тому, что схватывает себя как место тормозящих противоречий для ментальной, аффективной, социальной и сексуальной сил своего возраста.
Надо правильно понять: образ тела — это не образ, который дан на рисунке или представлен в лепке; он проступает в диалоге аналитика с ребенком. Для этого, вопреки тому, что обычно думают, аналитик интерпретирует не графический или пластический материал, даваемый ребенком. Лишь те ассоциации, которые ребенок дает по поводу материала, способны дать аналитику элементы для психоаналитической интерпретации его симптомов. Не в прямой связи, но в ассоциации со словами, которые ребенок говорит (например, полосатый свитер боксера). Исходя из этого, говорить об образе тела не означает, что он сугубо воображаемого порядка, потому что он имеет и символическую природу, являясь элементом определенного уровня либидинозной структуры, натолкнувшейся на конфликт, который может быть разрешен через то, что ребенок говорит. Нужно также, чтобы его слова были восприняты слушающим ребенка взрослым через события собственной истории ребенка.
раздел "Книги"